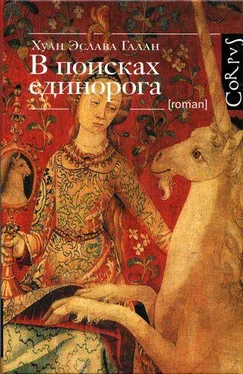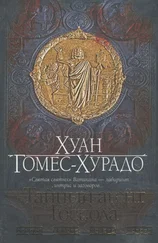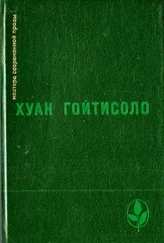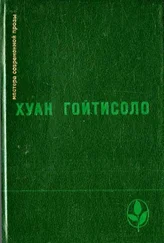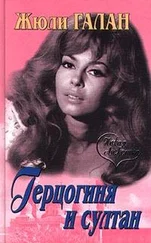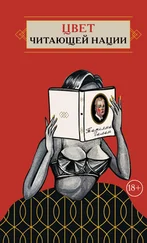Долго мы так шли, пробираясь по дорогам на восток ночами, а днем скрываясь среди деревьев, дабы выспаться и утолить голод чем придется. Когда на пути вставали деревни или хоть какое-то человеческое жилье, мы отходили подальше и жили, как волки в феврале, со сведенными желудками — раз-другой даже спускались к полям и крали съестное, но мне не хотелось, чтобы это вошло в привычку, а то еще разгадает кто-нибудь наш маршрут. Ведь Мономотапа страшно разгневался из-за того, что мы видели его лицо, но избежали смерти, и послал нам вдогонку многочисленные вооруженные отряды. Иногда мы даже наблюдали за его людьми из леса, а однажды они сделали привал и обедали у нас на глазах. Когда преследователи исчезли из виду, мы поспешили к стоянке, рассчитывая поживиться объедками — до того измучили нас всевозможные лишения и постоянный недостаток пищи.
Долго ли, коротко ли, привел наш путь к горам, поросшим густым лесом, и пролегала через них лишь одна дорога — дважды мы видели, как по ней бредут вереницы рабов, нагруженных разными тюками и сосудами. Мелькали туда-сюда и другие люди, свободные в перемещениях. Мы же на эту дорогу выходить не отваживались, опасаясь, как бы меня не узнали — наверняка ведь Мономотапа разослал весть о моих особых приметах: светлая кожа, одна рука. Поэтому делали короткие изнурительные переходы по неровным скалам и горным лугам, продираясь сквозь колючие заросли, вечно тайком, словно беглые преступники. Так продолжалось два месяца, пока горы не остались позади. За все это время мы почти не зажигали огня, не только из страха быть обнаруженными, но также за неимением кремня и сухого хвороста для разведения костра. Воду порой приходилось пить из грязных луж, где гнездились комары, какие-то кусачие клопы и пиявки, норовящие вцепиться в гортань. Тем не менее мы продвигались вперед не ропща, уже привычные к скитаниям.
Потом нас вдруг прихватила лихорадка, и пришлось на несколько дней задержаться в пещере на границе горной цепи, так как я не мог ни есть, ни ходить, лежал без чувств, не приходя в сознание ни днем, ни ночью, и, казалось, смертный час мой близок. Черный Мануэль неустанно заботился обо мне, поил водой, чтобы изгнать недуг. В горячке меня преследовал образ Гелы, наши свидания в укромном уголке на берегу реки, где мы изведали столько счастья. Я будто бы снова был молод и весел, гляделся в водную гладь, как в зеркало, пока она, по своему обыкновению, расчесывала мне волосы и бороду, в которых седина еще едва пробивалась. И все зубы у меня были на месте, и члены сильны и подвижны, точно у горячего жеребца. Мы с Гелой катались по траве, сплетясь в объятиях, ее влажная кожа блестела, то подо мной, то сверху она с неизменным пылом принимала меня, когда мы уступали велению природы и сжигали друг друга, и сгорали сами в любовном огне. И после — сладкая истома, когда мы, утомленные и взмокшие, прижимались друг к другу, как щенки в лукошке, а над нами в бескрайнем небе раскаленный солнечный шар завершал свой мерный величественный ход, расплескивая лучи по горным отрогам и предупреждая нас о приближении ночи. Над вершинами потихоньку зажигались звезды, и воздух пронзал комариный зуд, заставляя нас покинуть берег. В бреду все это представлялось мне так живо, словно вновь происходило наяву. Прохладная вода унимала жар, и я облизывал сухие, потрескавшиеся губы, ощущая на них солоноватую влажность женской кожи.
Позже, когда рассудок и память стали возвращаться, я думал, что именно эти видения о Геле укрепили мой дух и не дали сгинуть подобно всем нашим товарищам. Но потом рассуждения эти сменились другими: быть может, Гела так часто вспоминается мне по причине привязанности между мужчиной и женщиной, той, что поэты зовут любовью? Сердце разрывалось, когда я говорил себе, мол, никакая это не любовь, всего лишь бредовые сны тяжелобольного, а если и любовь, то как жестоко, как неблагодарно, как вероломно я с ней расстался! Однако, уже полностью владея собой и силясь выбросить из головы Гелу, я упорно направлял свои помыслы к донье Хосефине — и стоило вообразить, как я предстану перед нею беззубым, лысым калекой, как меня охватывал стыд. В утешение я твердил себе, что пострадал во имя короля, что служил верой и правдой и что возлюбленная станет достойной наградой за мои подвиги.
Иной раз в приливе бодрости я пускался в долгие разговоры с Черным Мануэлем, объяснял, что, добравшись до страны мавров, мы должны будем отыскать какого-нибудь купца, имеющего связи с собратьями из Гранады, который обеспечит нам богатого посредника и одолжит денег на удобный и безопасный обратный путь. И поплывем мы домой на большом корабле, а потом присоединимся к неторопливому каравану, не ведая иных забот, кроме как доставить в сохранности рог единорога и останки фрая Жорди. А уж в Кастилии добрые люди нам помогут, на встречу с королем верхом поедем, как подобает. Занятно будет посмотреть, какой наездник выйдет из Черного Мануэля, ни разу в жизни не видевшего лошади. Но пешком идти, как слуге, я ему не дам и при дворе никому не позволю смотреть на него сверху вниз только потому, что он негр. Наоборот, представ перед королем, скажу во весь голос, чтобы и канцлер, и благоухающая мускусом королевская свита слышали: вот этот чернокожий — посмотрите на него — самый благочестивый из христиан и самый верный из подданных нашего короля, ибо ради исполнения его воли покинул свою родину и свой народ, стал жить с нами, перенес бесчисленные страдания, лишения и опасности, не требуя ничего взамен, сотню раз рисковал головой, чтобы лучше послужить тому, кого знал лишь понаслышке, испил и отведал с нами всю горечь бытия. И отныне, добавлю в заключение, я объявляю его равным себе, моим товарищем, и прошу у повелителя милости: пусть женит его на своей подданной и отдаст ему все, что предназначалось мне в награду, — ведь если король обязан ему рогом единорога, то я обязан ему жизнью.
Читать дальше