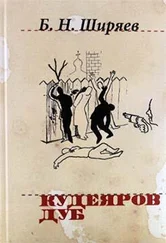Зато все семейные всегда ночуют дома. Это могу удостоверить под присягой. Знаю. Перекличка идет всю ночь. Лежу, слушаю: вот наследник экономиста Феличе-Вася подал свой зычный голос… Вас удивляет его странное имя? Очень просто: два раза крестили младенца, и по-православному в нашей лагерной церкви и по-католически у итальянцев. Для верности, а кроме того, в лагере новорожденным дают полное приданое от ИРО, а уж о наших южных итальянцах, более католиках чем сам Папа, и говорить нечего: позаботятся о спасенной душе. Хотели еще к баптистам снести, но оказалось, у них не крестят.
Так вот. В ответ на православно-католические возгласы тотчас изобретательская супруга отзовется:
— Марья Петровна, уймите свое чадо!
Но экономистиха — человек новый и славянизмов не одобряет:
— Это у вас, извиняюсь, может быть, чады, а у меня даже наоборот — дитю!
Другие-прочие в эту дискуссию вступят… Ну и пойдет на всю ночь… Народ, ведь, у нас в бараке высоко интеллигентный. Кроме того, по лагерям мы все уже пятый год циркулируем и вполне вросли в ировскую демократию, даже должности хорошие занимаем: изобретатель — переводчик при директоре, инженер киношку крутит, а экономист — куда выше: продуктовый кладовщик! Сами понимаете, что это значит! Не какой-нибудь подметайло, что за 12 долларов в месяц весь день с совком по лагерю фланирует. Это самцам-полковникам подстать или там какому-нибудь профессору философии… А мы все высококвалифицированные!
Вот и утро. Дивное, ясное, блещущее утро в Италии — стране красок и звуков. Ее славные традиции и нами восприняты.
— Addio la bella Napoli… — затягивает инженерша.
— Выходила на берег Катюша… — вторит ей экономистиха.
— Журавель, мой журавель, журавушка молодой! — подхватывает пара вернувшихся из ночного похода самцов-капитанов, а из запертой ушедшим хозяином-доктором клетушки потрясающий хрип радио сообщает о ходе футбольного матча в Милане.
— Ты бы садился работать, — пилит меня жена, в «Часовой» очередной очерк пора послать, да и в «Нашу Страну» тоже…
Умная у меня жена, всегда напомнит во-время. Сажусь и пишу.
— Тут у тебя не совсем ясно, — заглядывает она мне через плечо, — смотри: «Журавель в современном понимании служит катюшей в Наполи». Проще надо, популярнее…
— Да, конечно, надо проще… Умная у меня жена, деликатная и тонкий критик. Только я лучше почитаю. Кстати, Ариадна Владимировна Вилльямс свою чудную книгу о Пушкине прислала… Такая добрая…
— Широка страна моя родная…
— Санта Лючия, а дальше не знаю.
Как это у них складно получается. А вот Тыркова-Вилльямс чушь какую-то несет: «в Шикиневе Шупкин встрелил Теспеля»… Откуда она их взяла? Ах да! Пушкин — Пестеля… Пожалуй, я лучше погуляю…
— Лоллюшка, — спрашиваю я сына, — ты целый день бегаешь, скажи, где здесь поближе тихое место?
— Очень просто, — отвечает тот, — у соседа Джузеппе в его саду.
— Но он не пустит! Там его оранжи…
— Как это не пустит, — снисходительно улыбается сын, — я его Бенно вчера нос в кровь разбил. А ты — не пустит!
— Так вы же враги теперь…
— Ничего подобного — лучшие друзья! Завтра через горы в Сорренто вместе пойдем… Собирайся!
Пришли, и Бенно отпер нам ворота. Хотя на нем была только одна штанина и умывался он, вероятно, в последний раз лишь в день Всех Святых, при их общей помощи, т. е. месяцев пять назад, но его протекция стоила больше, чем письмо Леона Блюма о реквизированных липарийцах. После нескольких его слов, вернее, шипения с присвистом, именуемого неаполитанским наречием благородного языка Тассо, папа Джузеппе поставил на землю корзину со свежими синеватыми фигами и произнес почти по-итальянски:
— Пер пьячеге, синьор джорналисто, весь мой сад ваш! Вы можете отдыхать в нем, гулять, вдохновляться вашими высокими мыслями и писать… Жест, сопровождавший эти слова, был достоин Людовика XIV, показывающего Версаль инфанте Кастильской.
— Даже писать! Вы добрее, чем Сан Пьетро у райских дверей, расшаркиваюсь я, загребая ногой историческую пыль Везувия. В Италии, ведь, все историческое. Штаны падроне Джузеппе — на этот раз обе штанины — явное тому доказательство. Могу я поместиться в том углу, в тени ваших чудных оранжей?
— Всюду, куда ведет вас ваше сердце, но там Интеллидженто (Интеллидженто по-итальянски употребляется в значениях умный, мыслящий, сознающий.).
— А он, этот интеллигент, очень много поет? — спрашиваю я упавшим голосом.
— Синьор-иностранец, — снисходительно улыбается потомок Данте, — он не знает, что в Италии поют величайшие артисты мира, а ослы ревут… Мы назвали его Интеллидженто, т. к. он исключительный, гениальный осел, он знает все дороги в округе, свое место на базаре в Ночеро и ревет только тогда, когда хочет кушать… Ну, разве он не достоин этого имени?
Читать дальше