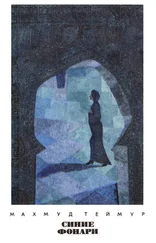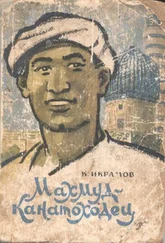Ровно в половине десятого на площадях скапливаются машины. Их не остановит смерть одного человека, тысячи людей. Люди смеются, плачут. Вода каплет из кувшина в подставленный таз. А неведомая рука где-то вдалеке нажимает черную, красную или желтую кнопку, поворачивает рукоятку и запускает ракету длиной в человеческий рост. Поначалу она взлетает медленно, словно не хочет никому причинить вреда, вторгается в жизни, в воспоминания, в забытые картины детства, в старые песни и ночные зовы, в грусть расставания. Во чреве ее сплетаются стержни, провода, трубки с белым, рыхлым веществом. Дотрагиваясь рукой до светлого металлического цилиндра, офицер сказал, что он сделан из высококачественного алюминия. Ровные ряды винтов ввернуты в серые шестиугольные гайки. Этот цилиндр бережно хранит в себе смерть. Точно до половины десятого. Люди не отрываясь смотрели на меня, ожидали, что я сделаю, что скажу. Я задал вопрос едва слышным шепотом, и они вытянули шеи, чтобы лучше слышать, потом попросили повторить погромче. Подтвердили, что это действительно было в половине десятого. Я спросил, какое чувство испытали они в тот миг, когда… и, не договорив, поднял вверх дрожащий палец. Они переглянулись в смущении. Я услышал, как одна женщина вздохнула. Я не видел ее лица, не знал, кто она такая. А она сказала: «Бедняжка Альтаф». И я понял, что моей матери Альтаф уже нет в живых. Шейх Халид сказал, что он, услышав взрыв, бросился к дому. Зейдан сказал, что он тогда пахал в поле и тоже побежал домой. Потом явились солдаты с ближних позиций. Все вместе они разобрали груду камней и досок. Я вспомнил дядюшку Халиля из кафе, вспомнил, как он молчал, глотая слюну, и кадык перекатывался у него на горле, а потом он рассказывал, как жена столяра лежала на столе, рассеченная надвое, словно ножом искусного мясника. Наверное, крик моей матери, если только она успела крикнуть тогда, в половине десятого, был полон ужаса и скорби, страха и мольбы. В нем прозвучало последнее прости и страстное желание, чтобы другие остались жить. С тех пор как здесь живут люди, с тех пор как они слышат шум ветра, и вой гиен, и грохот горных обвалов, с тех пор как день сменяется ночью, не было крика страшней, чем предсмертный крик моей матери.
Умран рассказал, что он видел, как кровь ручьем текла по лицу Абд аль-Монейма. Абд аль-Монейм стоял подле дома, когда ракета «Земля-земля» накрыла цель и перестала существовать нежность, и любовь, и долгая жизнь, и беседка, увитая виноградом, и ссоры между братьями, и радость праздников, и дни рамадана, и пробуждение в предрассветный час для сухура [43] Сухур — последняя трапеза перед восходом солнца в дни рамадана.
, и голос матери, желающей сыновьям спокойной ночи, и вечерний чай, который мать неторопливо отхлебывала, в задумчивости глядя в непроницаемый мрак, окутавший дома, канал, боевые позиции, дороги, перекрытые после наступления темноты. Она слушала отдаленные взрывы, рев самолетов, кружащих в небе, как воронье. Она слышала звуки, но не видела парящие в вышине алюминиевые машины. Мать вспоминала свою молодость. Вспоминала, как вечером возвращался домой отец. В руках у него был узелок, в котором он приносил хлеб и мясо. Мне вдруг захотелось, чтобы слова, которые я слышу, были обращены не ко мне, а к кому-то другому или раздавались где-то совсем в ином краю, далеко-далеко от нас. Я спросил себя удивленно, с недоумением, со страхом: стало быть, вот она, смерть дорогих тебе людей? Когда мне шел восемнадцатый год, мог ли я предугадать, что такое случится? Эх, если бы кто-то мог знать, что случится с ним в будущем. Пускай не все, пускай хотя бы самое главное! Если б я знал это, я взял бы их с собой в Заказик, и теперь мы вернулись бы сюда все вместе. Мы стояли бы перед развалинами дома, и мать сказала бы, что нам на роду написано прожить две жизни, и дала бы святым аллаха обет сварить блюдо бобов для подаяния. И мы провели бы ночь без сна. Но они ушли из жизни, и я остался одиноким, словно тонкая, сухая, жалкая веточка, вот-вот готовая переломиться. А в мире ничто не изменилось, всякий занят своим делом. И сам я в тот миг, в половине десятого, ничего не сделал, чтобы предотвратить несчастье. Шейх Хамид снова повторил, что судьбы наши в руках аллаха. А Зейдан сказал: «Нельзя оставлять его одного, а то как бы он руки на себя не наложил». И кто-то другой, незнакомый мне — хотя я всякого в деревне мог узнать издалека в темноте по одной походке, — заявил: «У меня дом большой, и убежище просторное, ночью, в случае чего, мы все можем там спрятаться». А бабушка Нагма — она мне никакая ни бабушка ни с материнской, ни с отцовской стороны, просто я каждую старуху в деревне называю бабушкой — сказала: «Мы с покойницей все вечера коротали вместе». Мужчины взглянули на нее с упреком. Я не видел их взглядов, но словно осязал их, и во мне поднимались горечь и скорбь. Это о моей матери говорят: покойница…
Читать дальше