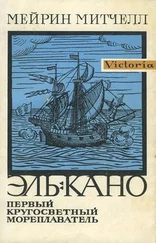Серафину было двадцать семь лет, Марии де Мегаре двадцать четыре, когда 10 июля 1910 года (который был не только годом, когда можно было наблюдать комету Галлея, но и годом смерти Уинслоу Хомера и Марка Твена) они сочетались браком в присутствии также чернокожего церемонного нотариуса, в безупречном костюме и с выпрямленными, набриолиненными волосами, нанятого «Восточным обществом Дагомея».
Супружеская пара осталась жить в Ла-Майе, в пристройке, которую могучий Серафин сколотил своими собственными руками из досок крабового дерева и приладил к домику Лидувии и Лосанто. Там 12 декабря 1911 года родилась Коломба Бесанта, дочь Марии де Мегары и Серафина Минайи.
И они были более или менее счастливы в эти годы, в которые более или менее продлилось их счастье и которых было только два. До той самой ночи в июне 1912 года, когда вспыхнуло негритянское восстание, и деревушка Ла-Майя сгорела, как могут гореть деревушки, наскоро выстроенные из досок крабового дерева, стволов табебуйи и мангров и сухих листьев королевской пальмы.
Одиночество будет приятным, потому что будет холодно, и ей будет приятно мерзнуть. Мерзнуть, смотреть в окно и вспоминать, чувствовать себя одновременно подавленной и защищенной оттого, что столько снега и столько зданий. Раскинуть руки, упасть на кровать, знать, что рядом никого нет и некому привычно пожаловаться, настолько привычно, что жалоба уже звучит как Щутка, некому снова сказать, лукавя:
— Нет ничего хуже для женщины из Гаваны чем жить в городе, где идет снег.
Она встанет с кровати, чтобы нацедить себе чашку кофе. Как забавно и неуместно, что она так и будет говорить «нацедить», когда речь идет о том, чтобы нажать кнопку на электрической кофеварке.
С чашкой кофе она сядет писать о том, что раньше все было по-другому. Лишняя фраза, поскольку не нужно быть очень проницательным, чтобы понимать, что всегда раньше все было по-другому.
Она будет писать о другом мире. Во многом гораздо худшем. Почти ни в чем не лучшем. О времени, месте и жизни весьма мрачных.
И самым замечательным будет то, что там, в Нью-Йорке, она обнаружит: на самом деле те годы не были такими уж мрачными.
Валерии придется признать, что на пляже было три маленьких чуда. Первым, и весьма знаменательным, было то, что она была очень юна, ей было восемнадцать, а в этом возрасте еще не понимаешь многих вещей, в частности, что такое страх. Вторым — что они составляли маленькую семью, со своими достоинствами и недостатками, симпатиями и антипатиями, как любая семья. Третьим же, и, возможно, самым важным, было то, что Яфет тогда был с ними, в доме.
Валерии будет холодно в уютной квартирке в Верхнем Вест-Сайде (квартирке, о которой хоть раз мечтал любой кубинец), и она будет смотреть на снег (снег, о котором тоже хоть раз мечтал любой кубинец). Там, за окном, снег будет потихоньку падать, расстилаясь папской сутаной.
Она спросит себя: «Что же я все-таки здесь делаю?» Вернее: «Как я здесь оказалась? В чем странный замысел того, что я очутилась в этом городе, в центре мира?» В другие дни она, наоборот, будет спрашивать себя: «Что я делала там?»
Иногда эти вопросы она будет задавать себе одновременно, и тогда они уж точно будут оставаться без ответа. А если бы ответ и существовал, он был бы непонятным, слишком абстрактным или метафизическим для такой женщины, как она, которая в конкретных вещах, «по эту сторону зеркала», как она любит говорить, в «реальной жизни», как она, посмеиваясь, это называет, будет предпочитать не терять времени и не ходить вокруг да около. Зачем? Искренне и с иронией, призванной смягчить педантичность фразы, она сделает вывод: «Жизнь — это литературный жанр, а судьба, если она есть, — это структура жанра. В жизни нет людей, а есть персонажи. Герои и героини, придуманные умным, упрямым, чувствительным и немного сумасшедшим писателем. Герои и героини, помещенные в наилучшим образом организованный, подготовленный и налаженный мир».
Это скажет и напишет женщина, которая никогда не верила в Бога и всегда посмеивалась над подобными идеями, оправдывающими человеческую слабость. Для того, кто не в силах осмыслить этот путь из никуда в никуда, вполне разумно придумать себе Бога. Валерия всегда считала и будет считать себя атеисткой. Она скажет и напишет, что только романы имеют право на структуру.
Так что жизнь если и стремится к чему-нибудь, так это стать романом.
Но она так никогда и не узнает, является ли, как говорил Малларме, целью мира книга или он книга изначально.
Читать дальше
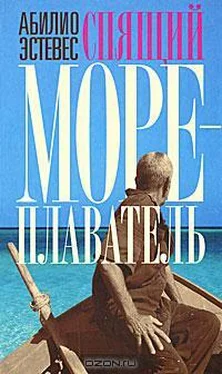
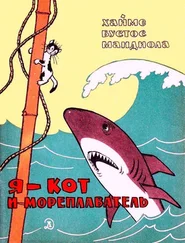





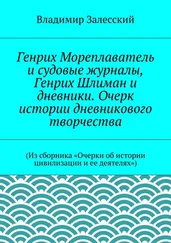
![Сергей Спящий - Холод твоего сердца [СИ]](/books/395278/sergej-spyachij-holod-tvoego-serdca-si-thumb.webp)