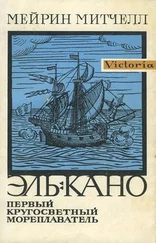Андреа раскрыла объятия и заявила:
— Я знала, девочка моя, знала, что ты приедешь.
— Мама, я вижу, стая растет, — воскликнула Элиса, имея в виду кошек.
Мать кивнула, вздохнула и засмеялась. Иногда в шутку, иногда всерьез домашние принимались без всякого повода нападать на нее за слабость к кошкам. Ей было все равно, что они говорят. Она уже была стара и слишком измучена, чтобы обращать на них внимание. Кроме того, она считала кошек священными животными.
— Кошки считались священными еще у египтян, — возвещала она с пророческим видом, искоса поглядывая на Мамину.
Оливеро отвечал:
— Да, а еще это любимое животное ведьм.
— Хорошо, — не сдавалась Андреа, — в любом случае они гораздо более священные, чем куры.
— Неправда, — вступала Мамина назидательным тоном, на который ей давали право ее полных девяносто лет, — вот как раз куры — священные животные, их можно есть.
И все смеялись. Эти разговоры всегда заканчивались долгим смехом, подчас необъяснимым. Смех, казалось, был наготове, ожидая малейшей возможности вырваться и заполнить одинаковые, нескончаемые вечера в доме у моря.
Элиса поднялась по ступенькам крыльца и поцеловала мать, обняла ее и почувствовала запах лука и лаванды, который перенес ее в счастливое — она, по крайней мере, считала его счастливым — детство. Ей захотелось плакать, и, чтобы не расплакаться, она указала на привязанные кресла и спросила:
— Циклон так близко?
Андреа несколько раз кивнула, и выражение ее лица при этом означало: «Лучше соломку подстелить». И тут же добавила:
— Мамина говорит, что циклоны — как несчастья, ты же понимаешь, нужно все время быть наготове.
— Я проснулась в три утра, — сказала Элиса, — и почувствовала себя в Гаване как в могиле, меня охватил ужас, и я сказала себе: я здесь не останусь, я поеду на пляж, к маме, папе, Мамине, Оливеро. И поехала, не хотела, чтобы рассвет — ну или то, что будет вместо рассвета, — застал меня в Гаване. Сегодня я ее ненавижу. Сегодня, не знаю почему, этот город мне ненавистен, мама. Бывают дни, когда я люблю Гавану, когда она мне кажется единственным городом в мире, в котором стоит жить, а бывают дни, как сегодня, когда я ее ненавижу и не представляю даже, как по ней можно ходить, ужас. В эти жуткие дни я чувствую себя чужой. И я сбежала, потому что, помимо всего прочего, в такую погоду чувствуешь себя более одинокой. И циклон лучше переживать вместе. Тебе не кажется, что общее горе легче?
Пока Элиса говорила, она старалась не смотреть на море. Она воображала его штормовым, землистого цвета. Здесь, в этой бухте, оно всегда бывало землистым. С фиолетовой пеной, бесстрастно готовящееся к скорой битве. Андреа погладила дочь по спине, словно ощупывая рисунок позвоночника, и мягко, так что Элиса не заметила, увлекла ее в дом.
Посреди гостиной стояла Мамина, маленькая, черная, сморщенная. «Ей должно быть больше тысячи лет», — подумала Элиса. Жесткие седые волосы, беззубая улыбка и всегда безупречно чистое холщовое платье — как ей это удается? Элиса наклонилась. Мамина шумно и влажно расцеловала ее.
— Как поживает моя деточка?
Для негритянки Элиса по-прежнему оставалась взбалмошной, наивной и несерьезной девчонкой, которая сначала вздумала танцевать на цыпочках, а потом стать актрисой, причем неясно было, каким значением наполняла Мамина слово «актриса».
— Замечательно, лучше не бывает, — ответила Элиса, нервно моргая, с ироничной улыбкой и характерным жестом, состоявшим в том, что она подняла обе руки и как будто писала ими в воздухе или прощально махала какому-то высшему существу, наблюдающему за ней сверху. Жест этот опровергал смысл сказанного.
— Лучше не бывает… конечно, я тебя понимаю, прекрасно понимаю, — это был бас Полковника-Садовника.
Кухня, дом и вся бухта сделались вдруг маленькими. Хромая, стуча об пол своей палкой, с черной повязкой пирата на глазу, Полковник вошел в гостиную, предваряемый сильным запахом перьев, канареечного семени, птичьего помета, грязной воды, дыма и углей.
— В этой стране, — и он постарался вложить во фразу весь сарказм, на который был способен и который больше походил на грусть, — мы все живем замечательно, лучше не бывает.
В силу своей близости к вьюркам отец Элисы, Хосе де Лурдес Годинес, более известный с ранней юности как Полковник-Садовник, стал похож на птицу. Гигантскую птицу, орла или огромного андского кондора, с крючковатым носом, длинной, сморщенной шеей и только одним темно-желтым маленьким глазом, обычно смотрящим пугливо и вместе с тем властно и недоверчиво, но этот же глаз иногда бывал большим, чистым и добрым. У Полковника были огромные руки. И он был высоким, достаточно высоким, хоть и не таким, как Хуан Милагро, но в лицо ему он мог смотреть, не поднимая головы. Ему был восемьдесят один год, хотя иногда казалось, что ему перевалило за девяносто, потому что руки у него двигались плохо, ходил он с трудом, сгорбившись, словно тащил на плечах тяжелый груз. Иногда он, напротив, казался моложе, двигался легко, ходил быстрыми шагами, рубил мачете мангровые заросли и работал в угольном сарае наравне с Хуаном Милагро. Полковник всегда был очень гордым и отказывался пользоваться тростью, даже когда она была ему необходима. Вместо этого он ходил с мангровой палкой, которую всегда можно было оправдать тем, что ей он ворошит угли и вешает под крышу клетки. Его рот и манера изъясняться тоже делали его моложе: рот, большой и дерзкий (рот, который Элиса унаследовала), сохранял все зубы, слегка пожелтевшие, но крепкие, и умел смеяться и внушать опаску, причем даже когда смеялся; что до манеры изъясняться, то она была несколько напыщенной и по-своему ироничной и выдавала в нем человека рассудительного и даже скептичного.
Читать дальше
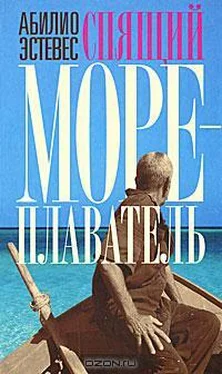
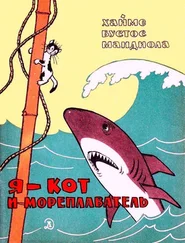





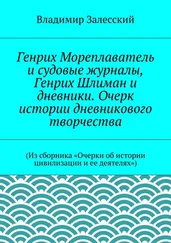
![Сергей Спящий - Холод твоего сердца [СИ]](/books/395278/sergej-spyachij-holod-tvoego-serdca-si-thumb.webp)