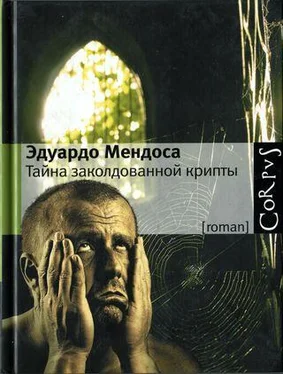„Меры“, о которых говорил инспектор, были приняты. Меня было решено сослать куда-нибудь подальше, и по сравнению с перспективой суда и следствия решение показалось мне очень хорошим и было с благодарностью принято. Так вот я и оказалась в глуши, где пребываю до сих пор. Первые три года я жила в доме старичков-супругов. Я ничего не делала, только читала и толстела. Молочная ферма ежемесячно выплачивала старичкам какую-то сумму на мое содержание. Потом ценой многих усилий мне удалось добиться независимости. Я стала учительницей — только потому, что на это место не нашлось других охотников, сняла дом. Живу неплохо. Воспоминания постепенно стираются. Бывают минуты, когда мне хочется изменить жизнь, но это желание быстро проходит. Здесь чистый воздух и у меня много свободного времени. А что касается других потребностей, то я, как я тебе вчера уже говорила, обхожусь тем, что имею. Чего-то не хватает, а чего-то вполне достаточно.
Мерседес умолкла, и в наступившей тишине мы отчетливо услышали крик петуха, возвещавший начало нового дня. Я пощупал простыню и заметил, что она высохла. Меня клонило в сон, и хотелось пить, а в голове была полная каша. Я бы что угодно отдал за бутылочку пепси-колы.
— О чем ты думаешь? — странным голосом спросила Мерседес.
— Ни о чем, — глупо ответил я. — А ты?
— О том, что жизнь — странная штука. Я шесть лет хранила тайну — и вдруг выболтала ее вонючему проходимцу, который мне даже имени своего не назвал.
Глава XII. Пугающая интерлюдия: то, чего я и опасался
— Действительно любопытно, — признал я. — Вообще, если задуматься, память — удивительная вещь. Она единственное, с чем мы остаемся, потеряв все. Память решает за нас, что из пережитого нами отсеять, а что — сохранить. Одно-единственное воспоминание может порой разрушить едва ли не всю нашу жизнь.
Я родился во времена, которые a posteriori считаю не самыми веселыми. Но я не собираюсь говорить об этом — возможно, каждому его детство кажется несчастливым. Течение времени было молчаливым спутником моих игр, а каждая ночь была прощанием с миром. Я помню, что беззаботно транжирил время в полной уверенности, что все у меня еще впереди, что скоро свежий ветер надует паруса моей шхуны и помчит меня к лучшему будущему. Глупые надежды: мы всегда останемся такими, какими были.
Мой отец был порядочным и предприимчивым человеком. Он зарабатывал на жизнь тем, что производил клизмы из старых жестянок из-под керосина, которых в то время было великое множество благодаря широкому использованию керосиновых ламп, впоследствии вытесненных лампами электрическими. Но правительство приняло стабилизационный план, начался приток на отечественный рынок иностранного капитала, и отец не выдержал конкуренции со швейцарскими фармацевтическими компаниями и разорился.
Фортуна всегда была к нему переменчива. В братоубийственной заварухе тридцать шестого—тридцать девятого годов он успел повоевать и на той и на другой стороне, дважды побывал в плену (тоже и у тех и у других), остался калекой, но не получил ни компенсации, ни наказания. Он упорно отказывался от всех возможностей добиться успеха, которые подсовывала ему судьба, зато с готовностью хватался за любую авантюру и попадался в каждую из сетей, что расставлял перед ним дьявол. Мы никогда не были богаты, а те немногие сбережения, что у нас имелись, отец спустил, делая ставки на блошиных бегах, которые устраивались субботними вечерами в одном из баров нашего квартала.
К нам он, казалось, был равнодушен. Проявления нежности бывали у него очень редкими и очень своеобразными. Лишь много позже мы поняли, что это были именно проявления любви. Зато проявления гнева бывали частыми, бурными и, как свойственно подобным людям, беспричинными.
А с мамой все обстояло по-другому. Она любила нас слепой, всепоглощающей и разрушительной материнской любовью. Она всегда верила, что я многого в жизни добьюсь, и всегда понимала мою никчемность. Она объявила мне, что заранее прощает меня за ту измену, которую я по отношению к ней когда-нибудь обязательно совершу. После того скандала с детьми-паралитиками (ты об этом, конечно, не помнишь: слишком мала была тогда, если вообще уже родилась) она оказалась в тюрьме.
Отец решил, что вся история была подстроена с единственной целью — досадить лично ему. Мы с сестрой навещали маму по воскресеньям и тайком носили ей морфий, без которого она не смогла бы перенеси тягот заключения. Мать моя была женщиной активной: она много лет, как тогда говорили, „ходила по домам“ — то есть выполняла за других тяжелую домашнюю работу. Правда, она нигде не задерживалась долго: не могла совладать с желанием прихватить из дома, где убирала, какой-нибудь заметный предмет — настенные часы, кресла… Однажды прихватила даже ребенка. Несмотря на это, предложений у нее хватало, поскольку тогда — и, как я слышал, в наши дни тоже — спрос превышал предложение: лентяи готовы терпеть что угодно, лишь бы не трудиться самим.
Читать дальше