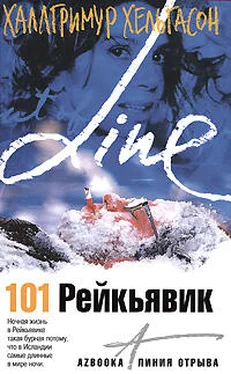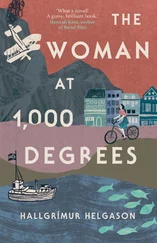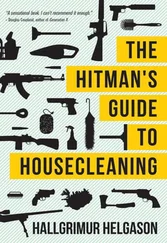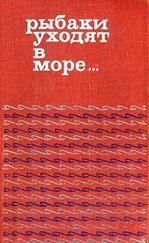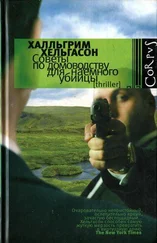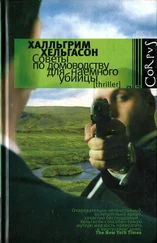— Ну, почему, конечно можешь.
— Чем я хуже других! В мире полно лесбиянок, у которых есть дети.
— Ведь мы с тобой спали?
— Да.
— Ты это уже забыла?
— Нет, нет.
— Что это было?
— Что?
— Да, что это такое было?
— Ну, это так… Нечаянно.
— Отчаянно?
— Нечаянно.
— Ошибка в программе?
— Это был как бы несчастный случай.
— А травмы были?
— Травмы?
— Да. Тебе потом в травмпункт бежать не пришлось? Ничего тебе не пришлось после этого зашивать?
— Я напилась. И ты тоже пьян был, правда? Или что это было для тебя? Тебя это так волнует?
— Меня? Нет, нет. Всю жизнь мечтал наставить маме рога.
Досточтимый Хлин я: тридцать четыре года несчастий всех цветов радуги, тихий рост бороды, половозрелый коклюш, младенец с пухом в паху, в колыбели с бутылочкой… виски, три с половиной килограмма восставшей плоти, король и шкет, несчастный и ревущий, запеленатый в полотенца, пьяный на пеленальном столике, льющий мочепиво, пузырящийся сопливо, похмельное диво, лепечущий дурак, мочащийся на материнское лоно, хлинический идиот у груди, до следующего кормления сосущий сигарету. Спящий на балконе с соской в коляске и просыпающийся с эрекцией до пупа, в честь происхождения, рождения, слияния, сливания, писающий иод матку и злоупотребляющий материнской любовью на ковре. Ослепленный грудями, немой от алых губок, хромой от сердцебиения, топающий по ногтями украшенной, изгрызенной дороге жизни. Безнадежно отставший в половом развитии, сидящий на пособии по импотентности, зовущий: Мама! Я уже все! Покакал! Вытри мне попку! Смени подгузник! Мама! Мужчина, имя тебе Том Ление…
— Наставить маме рога?
— Да.
— Я думаю, она не рассердится, что ты спишь с кем-то…
— Кроме нее?
— Э-э… Да.
— Но ей, наверно, не все равно, что я сплю с ее женой.
— То есть ты хочешь сказать, что это я ей изменяла?
— Или мне. С ней.
— Значит, это я виновата! Злая Лолла заманила маленького Хлинчика, королевича Хлина, в западню…
— А он не ведал ни сном ни духом, что она приползла с ложа королевы, еще теплая и пахнущая ее волосами, нагая, облаченная в ее лобзания, язык ее облит соком, который когда-то указал ему путь во тьме на свет божий. Нововенчанная ее прелестями, она привнесла в него, престолонаследника, вкус, который отливал его члены в материнском лоне. Ее губы накинули пуповину на его шею… Продолжай!
— Bay!
— Да, вау.
— Это что, какая-нибудь пьеса? У нас здесь с тобой трагедия? Ты посмотри только на себя! В очках, и… в этих вечных свитерах… Уж не знаю, кем ты себя возомнил, но ты не герой древнегреческой трагедии. С сигаретой… Тебе это не идет.
Я встаю и раскидываю руки в такт моим словам:
— Кто сам без греха… Уйди-ка от греха.
Лолла прыснула. И потом говорит, с насмешкой:
— К тем я суровее всего, с кем я сплю. [221] Переделка крылатой фразы из «Саги о людях из Лаксдаля»: «К тому я суровее всего, кого я люблю» («Peim er eg verst er eg unni mest»). (Эту фразу произнесла Гудрун после тога, как велела убить своего возлюбленного Кьяртана.)
— Жена двупола, клитор бородатый, ты делишь ложе с матерью и с сыном…
— Эй, прекрати! В театре я была вчера!
— Всякий театр — анатомический, жизнь в нем положена на помосты, и зрители приходят затем, чтоб посмотреть на труп. Занавес поднимается, и открывается посмертная маска жизни, холодная бледность, грим актера. А потом показательный суд при полном зале, и все знают, что убийца — автор, и лишь от его ловкости и искушенности в законах (стиля и владения пером: его алиби) зависит, будет ли приговор опубликован в газетах, будет ли он пожизненный, условный или по окончании спектакля автор чудом избежит наказания. От этого зависит, похлопают ему или его прихлопнут. Зароют ли труп сразу или продержат на сцене еще много лет, применяя всякие ухищрения, притирания и грим, на подмостках, помостах для трупов. Писатели — предатели! Вооруженные пером воры. Чувствительные насильники жизни. Шекспир и К 0. Серийные убийцы истории. Которые избежали. Гильотины. В то время как гильотинированные главы истории катятся по полкам, они дорого поплатились, их отбиографировали от тел, но некоторые из них еще держатся на одной жиле, удачной строке. А у других — их меньше — голова на бюсте. И лишь немногие сохранили жизнь и все члены, стоят в пальто на пьедесталах в городских скверах. Покорные покойники. Всякий театр — анатомический, а жизнь — труп в нем. И сам я стою здесь в гостиной в последние месяцы своей жизни и делаю в уме короткий шаг по направлению к тлению, смердя умирающими словами.
Читать дальше