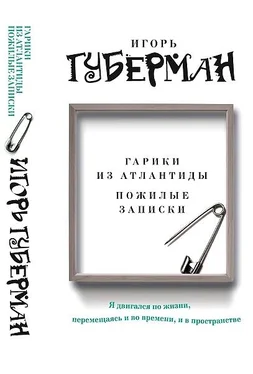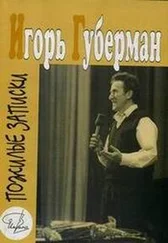И настолько без тени зависти или осудительности, что свое спокойное доброжелательство она с неназойливой легкостью передавала другим, хоть вовсе не была Сократом или Песталоцци. Просто как-то вовсе по-иному поворачивала она тему, и мгновенно лопался, сникая, тот безжалостный гражданский пафос, коим так болели в те годы мои ровесники и я. Вдруг делалось смешно, а смех стерилизует любой пафос. Однажды, например, заговорили о поэте Тихонове, и я заклокотал, как чайник, извергая нечто обличительно-высокое (как пал отменный некогда поэт до жирного и подлого чиновника), а услыхал в ответ крохотную жалостливую историю. Жила в семье у Тихонова молодая домработница, и начала она вдруг поправляться, пухнуть и смущенно попросила об увольнении: забеременела от какого-то знакомого солдата. Что ты, Клаша (или как там ее звали), успокоили ее хозяева, рожай спокойно, мы ребеночка усыновим. И родила она, и вправду усыновили или удочерили, не помню подробностей. Но не прошло и пары лет, как снова стала Клаша пухнуть, отводить глаза и поговаривать, что ей пора в деревню. Да рожай ты и не мучайся, опять сказали сердобольные хозяева, усыновим и этого, не надо так страдать. Получили Клашу из роддома со вторым ребенком, записали снова это чадо как свое, но времени совсем чуть-чуть прошло, и снова стала увольняться Клаша. «Неужели ты опять подзалетела?» — спросила ее хозяйка. «Нет, — сказала Клаша с надменностью, — а просто я в семью с двумя детьми не нанималась, мне столько работы не по нраву, я к бездетным ухожу».
Не знаю степени правдивости этой истории (да и узнавать не хочу), но появились новые какие-то оттенки в черно-белой моей прежней окраске мира. Я преувеличиваю? Возможно. Только я ведь о себе говорю.
И за то же самое своей теще благодарен. За одну, к примеру и в частности, крохотную историю. Из времен отнюдь не вегетарианских — из кошмарных лет борьбы с космополитами. Очевидно, сорок девятого года история.
Шло огромное общее собрание в Союзе писателей, и нельзя было его пропустить, опасно было не пойти на него, игнорируя всенародную кампанию. Отчего и сидели в самом первом ряду (чтоб лучше слышать) два каких-то очень старых еврея. По своей дряхлости долго держать внимание они не могли, и потому по очереди дремали, лаконично на идише (понятно будет, понял даже я) передавая друг другу вахту. А на трибуне, сменяя один другого, то усердные подонки раздували ярость, то напуганные, то слепцы — в достатке было искренних слепых в те годы. А когда один такой оратор до высот гнева и пафоса дошел, требуя изгнания, четвертования и чуть ли не сожжения космополита Юзовского, старый еврей в первом ряду проснулся и спросил соседа:
— Вус от эр гезугт?
— Эр полемизирт мит Юзовский, — с римским спокойствием ответил второй старик.
Ах, как научила меня жить эта история! Потом на следствии, в тюрьме и лагере я вспоминал ее несчетное количество раз. И когда меня спрашивает кто-нибудь, как надо жить и относиться к жизни (редко, но спрашивают), я отвечаю только этой притчей.
Но вернусь к Людмиле Наумовне и начну теперь по порядку. Родилась она в Санкт-Петербурге одновременно с двадцатым веком. В шестнадцать лет играла в театральной студии когда-то знаменитого актера Давыдова.
А в семнадцатом году с ней удивительная история произошла. Пригласили эту самую театральную студию развлечь своим искусством гарнизон Зимнего дворца. Играли они там, кажется, комедию Островского, а пришлась эта гастроль, как вы уже догадались, на поздний вечер двадцать четвертого октября (по старому стилю). После окончания спектакля дежурный офицер сердечно поблагодарил всех студийцев за доставленное удовольствие, после чего, смущаясь несколько, добавил:
— Извините меня, мальчики и девочки, но тут вокруг дворца творится что-то непонятное, шляются странные личности и много пьяной матросни. Мы просим вас остаться и переночевать в спальнях гарнизона, а поутру засветло вы спокойно разойдетесь по домам.
Так и вышло, что семнадцатилетняя Люда пришла домой, того не зная, что Октябрьская революция, о которой так много говорили большевики, свершилась! Этого не знала, естественно, и ее мать, для которой это было просто первое отсутствие ночью ее юной дочери. А поэтому, сама того не понимая, ее мать сказала историческую фразу:
— Людочка, чтобы этого больше не было!
Много лет эти глубокие слова повторялись в дружеских застольях, а пришло время — стали даже эстрадным номером (и я не раз эту историю с наслаждением рассказывал на вечерах).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу