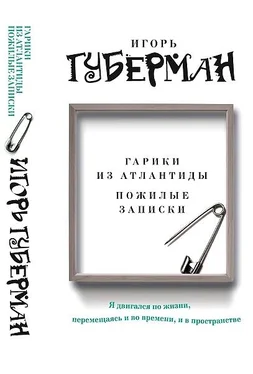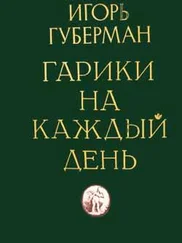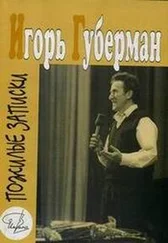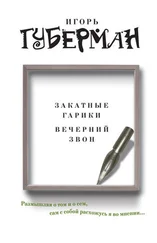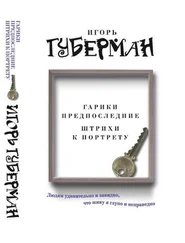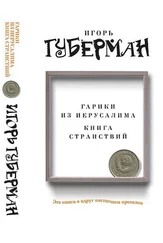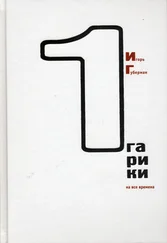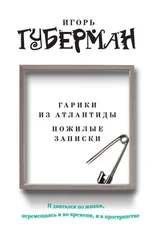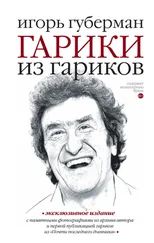И дальше мы всю жизнь подыскиваем себе людей, на мнение которых можно ориентироваться. Отбор производится подсознательной, но все-таки логикой, и ее возможно воспроизвести. Ну, приблизительно так: он с очевидностью желает мне добра; общеизвестно, да и видно, как он умен и сведущ в том, что говорит;
он увлечен, он убежден, уверен, говорит открыто и явно искренне;
это совершенно совпадает с тем, чего я, в сущности, и сам хочу;
он симпатичен, прозорлив и проницателен; ему верят все вокруг, нелепо быть исключением; я не уверен, я колеблюсь, плохо осведомлен, а это — явный профессионал.
И всякое тому подобное. Поэтому во все века любой — от мелкого торговца до великого духовного пастыря — настаивает прежде всего на том, что желает добра и выгоды, что знает нечто, что уполномочен свыше и что безусловно одобряем кем-то, кто является заведомым авторитетом.
Обращенное к человеку слово если не всегда действует внушающе, то все же проникает и хранится где-то. Поэтому яд медленного внушения от слов Яго постепенно проникал в душу Отелло, отсюда правота гнусного наставления «клевещи, клевещи, что-то останется», отсюда неодолимо западающий в разум сухой остаток любой проповеди и любого внушающего нажима. Особенно одетого в факты (даже подтасованные), особенно горящего убеждением и пафосом (даже бенгальским), особенно подкрепленного авторитетом (даже умышленно раздутым).
До сих пор я вспоминаю с благодарностью ту выцветшую обветшалую книжку, до сих пор я помню ослепительное чувство счастья, охватившего меня в процессе чтения. И наплевать мне было, что я читал элементарные, давно общеизвестные азы, что лишь моим дремучим невежеством объяснялась та высокая радость постижения, которую я испытывал. Мне и сейчас не стыдно, что произошло это со мной в том возрасте (уже под тридцать), когда давным-давно пора было открыть глаза. Не стыдно потому еще, что знаю сверстников, с которыми и посейчас того не случилось.
После Второй мировой войны психологи толпами кинулись изучать загадки фашизма, и сила внушения была далеко не последней в перечне их интересов к феномену массового безумия. До империи советской не дотягивался в ту пору их интерес, а я меж тем наткнулся на статью о поразительных (на мой, конечно, личный взгляд) экспериментах. Вот, судите сами.
Получает человек фотографию и слышит от психолога просьбу дать словесный, устный портрет изображенного на фотографии преступника. Человек старательно всматривается и рисует довольно яркий образ:
«Этот зверюга понять что-то хочет. Умно смотрит и без отрыва. Стандартный бандитский подбородок, мешки под глазами, фигура стареющая, массивная, брошена вперед».
А вот другой человек получает фотографию ученого и тоже рисует устный портрет:
«Черты лица крупные, правильные. Голова большая, лоб высокий и широкий, настоящий лоб ученого. Взгляд и выражение лица его говорят о том, что он напряженно и мучительно решает какую-то проблему».
Следующий человек делает устный портрет изображенного на фотографии героя:
«Очень волевое лицо. Ничего не боящиеся глаза смотрят исподлобья. Губы сжаты, чувствуется душевная сила и стойкость. Выражение лица гордое».
Отрывки из такого же устного описания портрета писателя:
«Это лицо человека, любящего детей и пишущего для них… Человек с такими глазами, должно быть, хорошо знает и любит жизнь, людей».
Надо ли вам говорить, проницательный читатель, что это были описания одной и той же фотографии? И только крохотная, без нажима привнесенная деталь предварительного внушения меняла восприятие диаметрально, с легкостью, от плюса до минуса.
И нельзя не вспомнить чью-то давнюю печальную шутку, что мозг — это орган, которым человек только воображает, что мыслит. Мы напичканы таким количеством шаблонов, стереотипов, мифов, прописных истин, безусловных канонов и стандартов (но кто успел их нам внушить? когда?), что жизнь почти не требует мыслительных усилий. Дивное место есть у драматурга Шварца в его «Драконе»: там, где выясняется, что архивариус Шарлемань, хотя умен и образован, так начинен стереотипами, что ум и образованность нисколько не участвуют в его картине жизни. Он радуется, например, что город порабощен привычным драконом, ибо простодушно убежден, что лучший способ пережить драконий деспотизм — это иметь собственного, уже известного дракона, поскольку в жизни без дракона все равно не обойтись. И более того, он благодарен дракону, ибо в незапамятные времена тот избавил город от цыган, которые — плохие и опасные люди: они враги любой государственной системы, их песни лишены мужественности, а идеи разрушительны. Но бедный Шарлемань, как быстро выясняет собеседник, за всю свою жизнь не видел ни одного цыгана, а все это некогда проходил в школе — уже, конечно же, во времена дракона, позаботившегося о курсе обучения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу