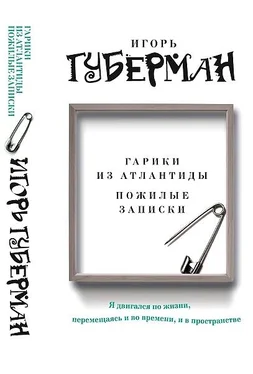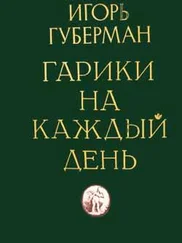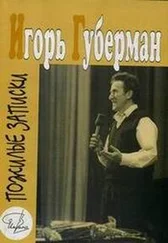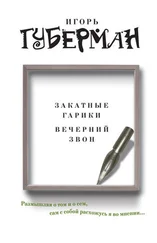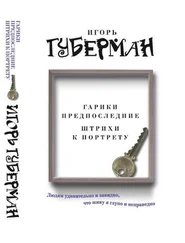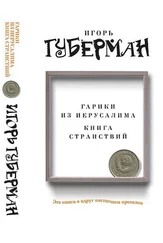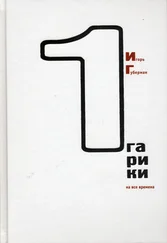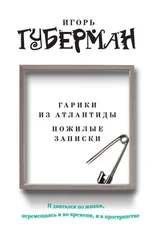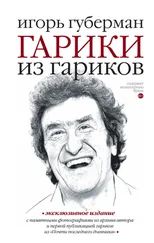Первой нашему путешественнику подвернулась страшная Тизифона. И понеслось! Хочу напомнить (ибо это вспомнил и Барков), что у подземного чудовища вместо волос повсюду вились змеи, и герой немало претерпел, но вовсе не утратил свой кураж. Я надеюсь, что хоть горящий факел старуха догадалась на это время отложить в сторону.
Тут подтянулись и остальные обитатели ада. Первыми прибежали сестрички-гарпии. С ними была Химера. Тут я хочу напомнить читателю, что это некое существо с тремя головами — льва, козы и змеи, — и все три изрыгают пламя. Ну и что из этого? Химеру наш герой тоже не обошел своим рассеянным вниманием. И не обидел.
Интересная гуманистическая деталь: на это время поголовного ублажения подземной нечисти в аду приостановлены были мучения грешников, что в этом месте случается нечасто.
И еще одна для зоркого внимания деталь: в сбежавшейся и ставшей в очередь толпе опять мелькнули эвмениды — так порой именовали тех же эриний. А поскольку нам известно, что мифологию Барков знал отменно, следует полагать, что три старушки подвернулись по второму разу.
Далее попался ему под руку (простите за неточность выражения) сам царь Плутон, а за ним настала очередь царицы Прозерпины, с которой герою было так хорошо, что Плутон из чистой ревности погнал героя вон. Кстати, всю остальную нечисть владыка ада разогнал чуть раньше, потому что они дико вопили и совсем забыли о своих прямых обязанностях.
На обратном пути и Цербер, и Харон получили то же вознаграждение, и герой вернулся в полном здравии. Хотя и не совсем, но все образовалось, конец счастливый.
И вот что вспоминается невольно. Жители Флоренции, прочитавшие только что вышедшую «Божественную комедию», боязливо и почтительно шептали друг другу, встречая Данте Алигьери: «Он побывал там! Он видел!» А могли ведь это же шептать и обыватели Санкт-Петербурга, встречая Иван Семеныча Баркова на вечерней прогулке, и ему наверняка было бы приятно такое внимание. Чисто российская случилась тут несправедливость, с этой точки зрения очень жаль, что не увидели света его тексты и лишился он прижизненного удовольствия.
Еще изрядно жаль, что не дошла наука к тому времени до исследования и познания космоса, поскольку совершенно ясно, чем бы занимались в необъятных его просторах герои Баркова. И быть может, это был бы лучший способ налаживания контактов с обитателями иных миров, туземцами внеземных цивилизаций.
* * *
Но достоин обсуждения высокий и непростой вопрос: почему это в России именно Барков, а не кто-либо другой стал некой светлой загадочной туманностью, стал символом… — а кстати, символом чего он стал? Только неприличия и нарушения границ? Только скабрезности и мата?
Нет, упас Господь это имя, упас и предназначил, а для чего — мы попытаемся сейчас обсудить. Иначе Пушкин (знавший толк в поэзии и многом другом) не сказал бы однажды Вяземскому слова удивления: как, мол, вы собираетесь поступать в университет и не прочли Баркова до сих пор? Это курьезно, сказал Пушкин. И еще он вот что добавил (ввиду ответственности момента процитирую точно): «Стихотворения его в ближайшем будущем получат огромное значение».
Как это серьезно сказано — услышали? Теперь начнем совсем-совсем издалека. С мифологии древних греков начнем, ибо гипотезу я хочу предложить — сугубо научную.
Конечно, музы есть и несомненно посещают смертных. Собственную музу видеть невозможно, ибо она исчезает в тот самый миг, как вспоминают о ее присутствии и намереваются бесцеремонно разглядеть. Но чужую музу иногда подсмотреть можно. Боже, какая она обычно плохонькая и неказистая! А порою — очень жирная, потная и совершенно непривлекательная. Музы ведь в равной степени посещают и способных, и бездарей. А от графоманов, к примеру, вообще почти не отходят. И никакой в этом нет загадки: просто древние греки, первыми обнаружившие муз, впали в естественное для первооткрывателей заблуждение. Они вообразили, что музы покровительствуют разным искусствам, вдохновляют артистов всех мастей и даже изредка увенчивают удачников лаврами. Это вполне типичный пример мифа, прошедшего нетронутым сквозь все века благодаря рассеянности нашего ума и поглощенности его другими заботами. Кроме того, льстивые музы действительно время от времени подают художнику нужную краску, а поэту — еле слышно подсказывают точное слово (а историку — бредовую идею, которая оказывается правдой), но вообще — ужасное суеверие полагать, что музы приносят и даруют вдохновение. Наоборот! Истые женщины, они сами питаются вдохновением и безошибочно прилетают на его неощутимый смертными людьми острый запах. Истечение творческого духа — их любимая единственная пища. Именно поэтому они с равной охотой пасутся и возле таланта, и возле бездарности любой духовной масти, ибо этим несчастным одинаково свойственно вдохновение (резко различен только результат), и музы — постоянные клиентки тех и других. А что в знак признательности и приязни они могут порой принести незримый венок и возложить его на потное плешивое чело — так это просто стимуляция кормильца, и не стоит в этом смысле заблуждаться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу