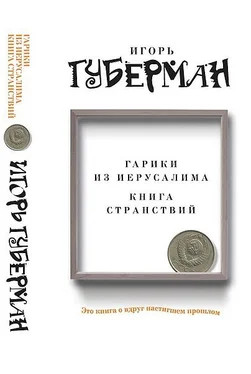Один немыслимой известности артист (да что я, собственно, темню — Александр Ширвиндт) как-то вспомнил молодые, чуть ли не студенческие годы. Они стояли возле поезда, провожая приятеля — того позвали в Питер сниматься в кино, и ехал он в спальном вагоне, где купе на двоих, и вообще все было прекрасно. Но приятель резко скис, увидев, что в купе ему предстоит ехать с неким знаменитым средних лет актером яркой гомосексуальной ориентации. Приятель не на шутку испугался, сник и боязливо лепетал, что просто он не знает, как себя вести, если маэстро к нему станет приставать. И Ширвиндт ему бодро предложил:
— А знаешь что? В вечернем вашем разговоре ты упомяни как будто невзначай и мельком, что у вас в семье есть давняя традиция на ночь сыпать в жопу толченое стекло!
А к неизменному партнеру Ширвиндта — к Державину я приставал как банный лист, я умолял его мне рассказать хоть что-нибудь о маршале Буденном, зятем которого он был какое-то время. Державин отнекивался, врал, что ничего не помнит, но одну историю я все-таки услышал. Как-то маршалу Буденному прислали пригласительные билеты на какую-то театральную премьеру, и он взял с собой зятя. Маршал был в штатском одеянии, благодарно реагировал на все сценические шутки, и Державин вдруг услышал, как на ряд позади них один зритель сказал другому:
— Посмотри, вон если того усатого мудака одеть в мундир — вылитый получится маршал Буденный.
Очень люблю историю, рассказанную мне приятелем-музыкантом. У них в оркестре был один немолодой еврей, мечтавший хоть раз в жизни посетить настоящий западный бордель. И в первую же зарубежную поездку, не надеясь, что он долго будет выездным, свою мечту решил осуществить. Но по неграмотности он зашел в довольно дорогое заведение, в котором было некое ступенчатое обслуживание клиентов. Девушку себе он выбрал по альбому фотографий, но вместо нее в комнату вошла вдруг симпатичнейшая молодая китаянка с тазиком душисто пахнувшей воды. Приятно улыбаясь и по-птичьи что-то вереща, она помогла ему улечься на диван, сняла с него штаны и с нежной аккуратностью омыла его уды сладострастия тряпочкой, обмокнутой в теплую ароматическую воду. Бедный музыкант был так взволнован и обескуражен этой предварительной услугой, что ему стало хорошо в эту тряпочку, он надел штаны и ушел очень довольный. Записные мои книжки полнятся уже семейными историями, каждую из которых невыразимо приятно переписывать сюда. Так маленькая внучка наша Гиля как-то раз мечтательно сказала:
— Вырасту когда большая, красиво оденусь и женюсь на бабушке.
На какую-то мою свежесмороженную глупость Тата укоризненно покачала головой. Я уже крепко был поддавший и поэтому обиделся.
— А ты за умного хотела выйти замуж, да? — спросил я заносчиво.
Тата ответила печально и душевно:
— Нет, не хотела, умный бы на мне не женился.
Но вообще-то Тата меня хвалит иногда. Она однажды мне сказала:
— Знаешь, у тебя в стихах стало больше смысла в первых двух строчках.
Я хотел было обрадоваться, но Тата честно добавила:
— А в двух вторых — меньше.
Я бы с удовольствием цитировал и собственные шутки, потому что изредка я что-то говорю, и все смеются. А над шуткой или надо мной — мне все равно. А так как мне записывать обычно лень, то все уходит в воздух или кто-то вспоминает без меня. Обычно это жуткая херня, и я бы ни за что такое не сказал, но утешаюсь, думая печально и возвышенно: каков Гете, таковы и Эккерманы. А бывают шутки, от которых явная выходит польза. Упасая, например, писательницу Дину Рубину от табачного дыма (у нее астма), я всем тихо говорю, что рядом с ней курить нельзя — она от дыма моментально беременеет. И теперь если кто-нибудь на пьянке машинально закуривает от нее неподалеку, то спохватывается, гасит сигарету, и такое у него лицо становится, как будто он уже подсчитывает алименты.
Или вот еще пример высокой пользы легкого отбреха. Как-то с той же Диной вышли мы из нашего Иерусалимского Общинного дома и присели на ступеньках лестницы, чтобы спокойно потрепаться о текучей и сумбурной жизни. Вдруг возник какой-то старикан (года на три меня помладше) чрезвычайно жантильного вида (если я верно понимаю это слово) и заверещал, что два таких юмориста не должны сидеть в пыли на лестнице, а должны выступить в каком-то клубе на организованном им вечере.
— Вы что-то спутали, — сказал я ему холодно и грустно, — я давно уже не юморист, я уже два года как пишу трагедию, и вот рассказываю из нее куски, и Дина плачет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу