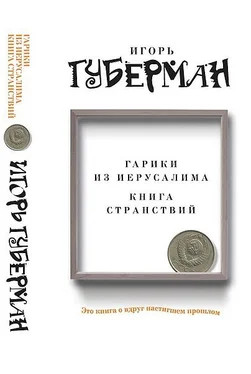Там приводится еще несколько таких случаев (один был в ночь под Рождество!), но это мерзко даже переписывать. А ведь жестокость таковая (вкупе даже не с отсутствием брезгливости, а с отсутствием чего-то трудно именуемого, что и делает человека человеком) — это чисто, чисто лагерное свойство. Тут мне просто неохота продолжать, и так уже жалею, что решил цитировать.
А если двинемся мы вверх по бесчисленным ступеням социальной лестницы, то мы и там все время будем находить отчетливые лагерные типы — надзирательские вперемежку с уголовными. И тут я лучше просто расскажу историю одной моей поездки.
Тогда я повидал три места, о которых помню как сейчас. Очень подряд они последовали один за другим, поэтому те города, что были в промежутке, стерлись начисто. В Минске завезли меня приятели в тот переулок, где нашли когда-то тело убитого Михоэлса. Какой-то был у нас несвязный глупый спор о том, насколько понимали тогда люди, где они живут, — Михоэлс видел ведь Америку, умен был чрезвычайно — да, но что можно было сделать с этим пониманием? Железные тиски безвыходности и страха держали равно всех, и слепота или иллюзии — спасительны и благодатны были в этой ситуации. Но ведь искусственно в себе их не взрастишь. И не спасительны, сказал один из нас. В этом уютном и зловещем переулке слова его прозвучали особенно убедительно. А без иллюзий и при ясном понимании — как он должен был чувствовать себя, когда в Америке его расспрашивали о лагерях, об отношении к евреям, вообще о качестве жизни? Он ведь наверняка врал, и мы его не вправе осуждать, но почему тогда мы осуждаем многочисленных других? Уже мы уходили, продолжая спорить, я украдкой оглянулся, чтоб запомнить: где-то здесь лежало крохотное тело великого артиста, капля в океане таких тел. Я еще не знал, что послезавтра ожидают меня те же ощущения.
По городу Томску меня водили две местные журналистки. Мы зашли к художнику, который тоже с нами увязался. А после две моих Вергилии случайно встретили приятеля-артиста, а бутылку я все время нес в руках, и глупо было к нам не присоединиться.
В загульном общем настроении мы шли вдоль какого-то скверика, когда Вергилии сказали чуть не хором, что ведь вон тюрьма, мне грех не посмотреть ее поближе. Дверь, возле которой мы оказались, вела в административный корпус, так что можно было запросто войти. В погожий солнечный день далее припомненная мрачная цитата («оставь надежду, всяк сюда входящий») вызвала общий смех, и мы уткнулись в пропускной барьер. Тут начались нежданные приятности, поскольку вышедший навстречу нам охранник видел меня по телевизору, о чем немедля сообщил, и мы с ним закурили, все друг другу улыбались, что навряд ли было часто в этих стенах. А здесь один большой поэт сидел, сказал охранник, я тогда еще и не родился, сказал он, — вы, может, слышали такого? Николай Клюев.
С меня слетел немедля хмель и обаяние гульбы, и что-то я залопотал, расспрашивая, только парень больше ничего не знал, а рассказал ему о Клюеве один старик — тюремный надзиратель. Так я понял, сказал парень буднично, что он в те годы был не надзирателем, а служил в расстрельной команде. Потому он Клюева и вел на расстрел. Это здесь рядышком, я только отлучиться не могу. Сразу, как выйдете, налево, и чуть поменьше километра, там тогда всех стреляли. Как увидите обрыв и гаражи, сразу поймете.
Меня слегка трясло от резко наступившего похмелья, по дороге я пытался вспомнить то, что знал. Это была ведь страшная и необычная даже по той поре история. Николая Клюева высоко ценил Блок, Есенин обожал его и называл своим учителем, а был этот поэт, игравший в темного мужичка, еще и знатоком российского фольклора и иконописи. Его за своего признавали старообрядцы самых разных сект, а стихи Гейне этот хитроглазый мужик в сапогах и поддевке читал в подлиннике, Гегеля и Канта он цитировал обильно наизусть. В конце двадцатых его уже больше не печатали, но ходили по рукам его поэмы об уничтожении российского крестьянства. А году в тридцать втором донеслось до крупного начальства (стукнули коллеги-писатели), что ежедневно стоит Николай Клюев на паперти одной московской церкви, часто посещаемой иностранцами, и громко возглашает: «Помогите, Христа ради, русскому поэту Клюеву!» Ему, конечно, подают, но иностранцы эти — сплошь энтузиасты социализма, для того сюда и приехали, вид Клюева подействует на них неблаготворно и смутит неколебимость их мировоззрения. И поэта выслали в Нарым. Потом он оказался в Томске, нищенствовал и тут, опять смущая местное начальство. И в тюрьму его забрали ненадолго — только чтобы вскоре провести по этому короткому пути.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу