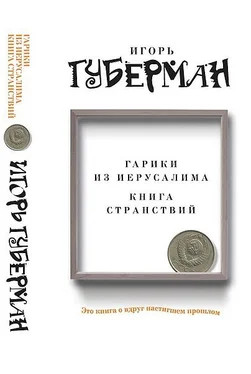А дверь толкнув, я оказался в неожиданно большом и светлом зале, где по стенам аккуратнейше на стеллажах стояли книги в диком множестве, в уютных выгородках сидели люди за компьютерами, — такая была смесь отменно сделанного магазина и издательства. Я закурил — никто не стал мне делать замечание, и потому я сигарету тут же потушил, и тут увидел, что сидевшие меня узнали: двое зашушукались, на меня глядя и улыбаясь, к ним подошел третий, а с лестницы, ведущей на второй этаж, спускался торопливо человек, явно направлявшийся ко мне. А я — непроницаемо и вдохновенно смотрел на книги. И лучше я пописал бы в кустах, печально думал я.
— Вы Губерман? — спросил меня подошедший человек.
— Да, это я, — ответил я с достоинством, — а где у вас тут туалет?
Потом наш диалог мы обсуждали столько раз, что выходило — я спросил про туалет, когда он только подходил, то есть повел себя как Державин с Дельвигом при посещении Лицея, эта версия так льстит моему тайному тщеславию, что я согласен с ней, хоть, видит Бог, — я был взаимно вежлив.
— На втором этаже, — ответил человек, ничуть не удивившись. — А потом зайдите ко мне в кабинет.
И я зашел, и протрезвел довольно быстро. Человек этот оказался владельцем замечательного издательства, и через полчаса я выходил оттуда с договором на трехтомник, а всего там вышло уже шесть моих книг. Мы подружились (смею я надеяться) чуть позже, когда выпили в Москве, а после — в его городе, где я на кустики возле издательства еще раз специально глянул, чтобы лишний раз подумать всуе о судьбе. Издатель этот — Саша — оказался человеком поразительной (прозрачной, редкостной) душевной чистоты. Забавно, что в Москве в один и тот же день я кратко перекинулся словами, проверяя впечатление свое, с женой и Гришей Гориным. Жена моя, сторожко относящаяся к людям, и Гриша (был он скептик и мудрец) со мной единодушно согласились. Потому я так серьезно и воспринял Сашины слова, когда мы виделись в последний раз недавно: вам, сказал он, Игорь Миронович, свойственна странная гордыня, я уже несколько раз слыхал от вас различные слова об избранности вашего народа — вы всерьез так полагаете? По-моему, народы все равны.
Не стал бы я ни с кем вступать в бессмысленные споры, только тут почувствовал я настоятельную необходимость объясниться — что и сделаю сейчас, поскольку времени тогда не отыскалось.
Да, конечно, Саша, несомненно, правда, что народы все равны, однако есть неодинаковость, которую никак не утаить. И в этом смысле — полон я гордыни, Саша, ибо явно некими чертами так отмечен, что похоже — избран мой народ. И в том высоком, что давно и всем известно, и в том низком, что присутствует с такой же яркостью. Ведь любому глазу очевидно, что у человечества есть яркие носители полярных качеств — на обоих полюсах отчетливо заметен мой народ. А избран — отношением к нему других, историей своей кошмарной, так что не льготы эта избранность означила, а тягости и смерти. А вернуться если к полярности человеческих качеств, то и на том и на другом полюсе умножены душевные черты на нашу дикую активность и энергию, уж не берусь я обсуждать ее происхождение.
Хотя философ Макс Нордау предложил когда-то очень убедительный вариант: «Евреи добиваются превосходства лишь потому, что им отказано в равенстве».
Опять в патетику я впал, а я ее панически боюсь. Я, более того, — боюсь за каждого, кто вслух о чем-нибудь высоком говорит и вечном. А вдруг он в это время пукнет? И перед высоким неудобно, и вся речь пойдет насмарку. Так что пора мне что-нибудь снижающее пафос повестнуть. Вот о гордыне личной, например, — весьма одной запиской я горжусь, не помню точно, в каком городе я получил ее:
«Игорь Миронович! Я пять лет прожила с евреем. Потом расстались, и я с той поры уверена была, что я с евреем на одном поле даже срать не сяду. А на вас посмотрела и подумала: сяду!»
Когда заведомое отношение есть к какому-то народу, то оно такие тонкие ходы в мышлении внезапно роет, что даешься только диву, сколько творческого скрыто в человеке. Тут для коллекции большой соблазн, и я его, конечно, не избегну.
Тому назад двенадцать лет все было, как сейчас, — кидали камни, жгли машины, взрывали автобусы с людьми, а винил тогда весь мир, конечно, нас самих. И вот один французский журналист, расспрашивая пожилого араба о бесчинствах оккупантов, сладострастно все записывал: и как гоняются еврейские солдаты за невинными подростками, кидающими камни, и как жестоко разрушаются дома тех террористов, что и без того уже сидят в тюрьме за убийства, и все прочее из обиходного набора той поры. Но был французом журналист и потому спросил, естественно, — а не насилуют ли эти злобные еврейские захватчики арабских женщин. И ответил без раздумий собеседник, что кошмаров много, но вот этого ни разу не было — нет, не насилуют. И с омерзением, презрительно сказал тогда француз:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу