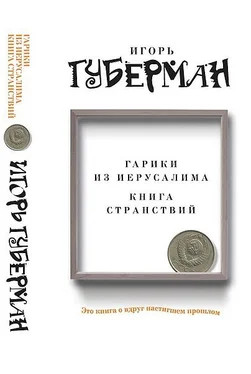Дина Рубина записала слова, однажды сказанные ей немолодым и невеликого образования человеком (уже здесь, в Израиле):
— Помни, деточка, — сказал он ей, — что самое хорошее и самое плохое на свете делается евреями.
Я не согласен с полнотой такого обобщения, но под словами о причастности нашей ко всему на свете, и к полярному по качеству притом, я подписался бы обеими руками. Это мания величия и миф об избранном народе? Нет, я думаю, что это — отражение реальности. И потому так правы старики, перечисляющие со смешной гордыней фамилии знаменитых соплеменников, и потому мне так понятны люди, ненавидящие нас. И вновь я сбился, старый графоман, на ту высокую тональность, что никак мне не по чину, а важней — что не по нраву.
Искажена моя картина мира — всюду вижу я талантливых (пускай способных), с бешеной активностью евреев. Может быть, пойти в сотрудники в журнал «Наш современник»? Сколько бы я мог им рассказать!
Я в Лондоне гулял дней пять с женой, а после был с туристской группой столько же. И не запомнил ничего, кроме отменной фразы гида как-то утром. Он сказал:
— Вниманию женщин! Следующий туалет будет только в доме, где родился Шекспир!
А моему приятелю завидно повезло. Он где-то на проспекте на огромный магазин набрел, где на витрине краской масляной было написано по-немецки — «говорим на немецком», по-испански — «говорим на испанском», по-французски — «говорим на французском». А на иврите там было написано — «для евреев — скидка». Кому это понравится, узнавши?
О взаимовыручке еврейской сколько ни написано — все правда. Далеко не полная притом. Поскольку множество веков евреи скидывались специально в помощь соплеменникам, которые нуждались в ней, и это продолжается посейчас. И ничего величественней этого я как-то не упомню. В лагере в Сибири с завистью и уважением смотрел я, как быстро сплачиваются люди с Кавказа. Сбившаяся стайка их немедленно и радушно принимала своего новичка — что творили с новичками и друг с другом люди коренной национальности! Вернусь к своим, поскольку миф о нашей выручке взаимной — справедлив почти вполне. Почти, поскольку в памяти стираются мгновенно грустные истории вчерашней жизни — как евреи старались не брать на работу других евреев, опасаясь, чтобы их не заподозрили в национальном потакательстве и вообще чего дурного не подумали. Таких испугов множество бывало — это характерно именно для растворенцев (не найду иного слова) — тех, кто жаждал слиться и прильнуть. Я еще слыхал о тайно жидовствующих растворенцах — те, согласно мифам и легендам, резали безжалостно евреев на различнейших экзаменах, свою повадку мотивируя идеей, что еврей обязан знать предмет не на пятерку, а на шесть как минимум. Но это обсуждать мне неохота, я брезглив и забывчив. Но чтобы с темой выручки и помощи расстаться, я ее хочу усугубить (разумеется, из лучших побуждений) той историей, что донеслась до меня через вторые руки от писателя Эфраима Севелы. В войну Судного дня (в семьдесят третьем) ездил он по Америке, собирая деньги для Израиля. Давали много и советовали, кто бы дал еще. И вспомнили миллионера, который на такие сборища не являлся, — стоило, однако, попытаться. И ему Севела позвонил. И секретарь соединил. И голос босса сообщил писателю, что он читал о нем в газетах и готов его принять — на три минуты ровно. Прямо завтра. И пришел Севела, как было назначено, провел его охранник (или секретарь) в большой кабинет, где сидел за письменным столом старый еврей наружности не просто малосимпатичной, более того — прямое олицетворение лучших образцов геббельсовской и советской карикатуры. Приветливости не было в помине. Делать нечего, однако, и писатель начал монолог. Он говорил о земле предков, на которой погибают сейчас люди, чтобы отстоять свою страну, о еврейских детях и вдовах, которым надо помочь, о долге каждого еврея, у которого жива душа. И чем-то он сумел задеть финансового паука: у старика сильнее обозначились мешки под мутными глазками, еще горестнее обвис лиловый нос, обмякли вялые веки и чуть как бы задрожали дряблые губы. Озаренный призраком успеха, памятуя об истекающих трех минутах, проситель повысил накал изложения. Паук молча нажал кнопку на своем столе, мигом появился секретарь, и старик жалобно сказал:
— Уведите его, он меня расстроил.
Тут пора мне сделать отступление. С некоторых пор есть у меня заочный собеседник, в глазах которого хотел бы я выглядеть по крайней мере хорошо. А как он появился в моей жизни — целая история, к этой главе никак не относящаяся. Ибо она — о торжестве той внутренней интеллигентности, которая порой бывает вознаграждена. То есть к моей сугубо назидательной книжке прямое отношение имеет. Я как-то выступать приехал в некий большой город (я все детали утаю, поскольку ни к чему они). И целый день я был свободен. Гулять по этому промышленному центру, доведенному годами советской власти до безликости из фантастических романов, не хотелось мне никак, и я проездил целый день в автомобиле своих местных импресарио, которые по разным поводам мотались по городу. По дороге я немножко выпивал, мне было хорошо и безразлично. А где-то на закате тормознули они возле двухэтажного складского вида помещения, пристроенного к жилому дому, и пошли туда, оставив меня в машине. Я выкурил, их ожидая, сигареты две и оглядел окрестности, поскольку писать очень захотел. По-маленькому было тут легко сходить, не вылезая из машины, пешеходов не было почти, а рядом были даже кустики. Но я (по пьянке, видимо, поскольку раньше и потом я писал всюду и везде) подумал вдруг возвышенно и страстно, что я ведь не животное какое — нет, я человек, и я звучу гордо, и ничто человеческое мне не чуждо, и не буду писать я в кустах, как кошка, мама не тому меня учила. И я побрел на этот склад, я полон был высокого сознания своей высокой правоты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу