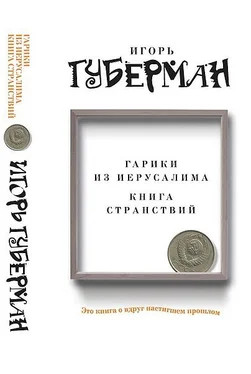«…Царь иудеев, генерал Барак, преемник царя Ирода, убивает младенцев Вифлеема. По его приказу детей убивают откормленные израильские снайперы, получающие премию за каждого убитого ребенка… Отряды убийц безнаказанно отстреливают палестинцев с вертолета, как дичь на сафари… Отравлены подземные воды, облака газа душат стариков в домах и младенцев в чреве матери…»
Признаться, в первый день прочтения я даже обсудить это ни с кем не мог — стояло где-то ниже горла мерзостное ощущение проглоченного по оплошности куска гавна. Но после я опомнился и трезво понял, что об истоках такой подлой лжи скорее всего следует спросить у психиатра. И спросил. Психиатрии издавна и хорошо известно клиническое тщеславие. Чаще проявляется оно в патологическом вранье, однако склонно и к поступкам. Комплекс Герострата — обозначили его врачи. Тот древнегреческий маньяк, что сжег когда-то в городе Эфесе храм — единственно затем, чтоб его имя зазвучало на устах, — не просчитался, ибо все подобные деяния теперь имеют его имя. Жаль только вашего — как там вы его назвали? — сказал врач, потому что вмиг забудется его статейка, в суд никто не обратится, Израиль наплюет на эту гнусь, как и на прочие, а жгучее тщеславие останется у этого бедняги. И будет полыхать на всем немереном пространстве между малой одаренностью и острой жаждой стать известным.
И во мне тихо шевельнулось сострадание к этому мелкому больному организму. Только обсуждение той гнуси, что проистекает из гнилой гордыни, — не годится в окончание главы. Поэтому поговорим лучше о гоноре, который хоть и порождает безрассудные поступки, только благородные и подлинно мужские.
Как-то в Питере мне одна женщина рассказала такую историю. В семидесятые годы уезжавшие художники должны были платить государству за собственные работы. Эти отзвуки крепостного рабства были тем более тяжелы, что у художников на это просто не хватало денег — цены назначались такие же, как если бы музей приобретал эти полотна. Когда назвали сумму выкупа за одну картину художнику Окуню, он ответил, что пусть ее тогда государство купит за эту цену. Вся комиссия дружно рассмеялась над такой наивностью. Тогда Окунь вынул бритву, твердой рукой художника рассек картину на четыре части и сказал, что эти четвертинки он раздарит. Рассказавшая мне это женщина хотела у меня узнать, где остальные три кусочка, она мечтает их купить, чтобы картина вся висела у нее. Я, к сожалению, не знал, а Саша Окунь уже просто не помнил. Мне такое проявление гордыни — как мед по сердцу и душе.
Мы все упрямо и заносчиво творим свою судьбу, а проповеди о смирении и скромности, о тихости и кротости — достигают уха только тех, кто впал в это блаженное состояние по возрасту или болезни. И тут они естественно гордятся своим смирением. Еще гордятся своей кротостью и скромностью те, которым более гордиться нечем. Остальные оголтело вожделеют и гордятся тем, чего достигли. И я никого не в силах осудить. Тем более что полон сам гордыни и зазнайства. Ибо мне-то есть чем похвалиться: с ранних лет я запросто достаю языком до кончика носа. Это мало у кого получается, а с такой же легкостью, как у меня, — почти ни у кого.
В поэме Данте Алигьери по неприютным серым просторам чистилища бродят тоскливые тени завистников. Веки их глаз наглухо зашиты железными нитками — так они избывают свой грех. Вообще огромная пыточная камера этой поэмы зримо выдает — и психоаналитик тут не нужен — мстительное и безжалостное воображение ее автора. Одна из теней говорит, почуяв человека:
Так завистью пылала кровь моя,
что, если было хорошо другому,
ты видел бы, как зеленею я.
Очень интересно, что завидуем мы — не уму, а удаче; мы завидуем успеху и достижению, совсем не думая о тех способностях, усилиях и упорстве, которые этот успех принесли. То есть мы завидуем результату. А неполнота информации о том, какие трудности лежали на пути, какая сметка и отвага, сила воли и готовность рисковать были проявлены, — нас совершенно не волнует. Словно с неба все это свалилось к обладателю — так почему же не свалилось на меня?
Но я, похоже, начинаю философствовать, что крайне осуждала моя бабушка («Не обобщай, и обобщен не будешь», — говорила она), и лучше обращусь я к собственной, отнюдь не безупречной личности.
Поскольку я, по-моему, был завистлив с раннего детства. А чья-то хитрая выдумка, что зависть бывает светлой, чем полярно отличается от черной, — утешительна для тех, кто хочет обмануться на свой счет и низменные свои чувства приподнять, чтоб с удовольствием смотреть на себя в зеркало. Я сам бы рад, но многовато лет, и уже поздно. Кроме того, мне утешаться незачем: я по сю пору полагаю, что зависть — неотъемлемое человеческое качество. Более того — она источник множества наших различных достижений: не завидуй птицам человек, навряд ли был бы изобретен самолет. И говорить, по-моему, разумно лишь о том, чему именно и кто завидует. Вот, например, тот факт, что именно зависть (и вытекающая из нее ненависть) лежали в основе Великой Октябрьской социалистической революции, — вряд ли даже спору подлежит, и неслучайно дикий лозунг «Грабь награбленное!» так воодушевил после Февраля народные массы. Только неохота мне карабкаться на высокий исторический уровень, я сел за книгу, чтоб рассказывать о жизни личной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу