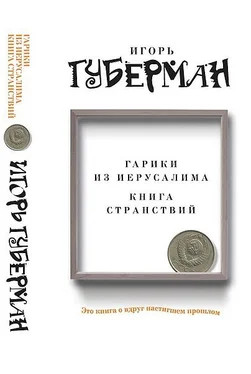— А она, может быть, все-таки подошла? — понадеялись стареющие мужики.
И тут моя жена безжалостно сказала:
— Конечно же, она подошла, просто он дальтоник.
Записки доверительные — песня особая, не все тут оглашению подлежит, хотя вопросы сплошь и рядом — типовые. Но бывают и весьма неординарные:
«Уважаемый господин Губерман! У меня молодая теща. Теща непрочь, и я непрочь. Как это с точки зрения иудаизма? Или воздержаться?»
А одна записка была длинная и трогательная донельзя. Молодая женщина писала, что она весьма мне благодарна: я на книжке год назад написал ей — «На счастье!» — и буквально через две минуты подошедший молодой человек попросил у нее дать телефон. С тех пор они уже целый год вместе, он свозил ее в заграничную турпоездку и купил зимние туфли. «Но жениться он, мерзавец, не хочет. Может быть, в этот раз Вы мне напишете на книжке что-нибудь такое, чтоб женился?!»
Нет, такую надпись я пока что не придумал. А ведь правда — хорошо бы?
Совсем недавно подошел ко мне (в Хайфе, кажется) немолодой мужчина очень интеллигентного вида и чуть застенчиво сказал, что он только полгода как приехал сюда к нам из Питера и что сочинил он некий новый глагол, уже посланный мне в записке. Удивительно симпатичный вопрос он мне задал, слегка помявшись: есть ли у меня где ночевать? Я еду в Иерусалим, домой, ответил я недоуменно. А, тогда все в порядке, сказал он, а то я знаю, в Питере случалось часто: хлопают заезжему артисту, цветы подносят, а потом вдруг выясняется, что и ночевать ему негде, да и голоден уже, как собака. Так что если что — пожалуйста. Я растроганно поблагодарил его, такая заботливость встретилась мне впервые, и подумал мельком, как обидно будет, если сочинил он что-нибудь пустое. Но глагол в записке оказался отменным и лестным донельзя:
Все, что нажил в стране моей, —
она решила прикарманить,
а я решил остаток дней
в Израиле прогуберманить.
Порой мне щедро присылают услышанные в фойе суждения, и попадаются весьма небанальные. Так некий молодой мужчина в ответ на хорошие обо мне слова его спутницы задумчиво сказал:
— Не знаю, не знаю… Так издеваться над своими — это по крайней мере нескромно.
Но пора мне закруглять эту главу о счастье, собранном за прошедшие годы в толстой папке. Я категорически запретил себе приводить записки хвалебные и благословляющие, ибо с детства был воспитан мамой и газетой «Пионерская правда» в духе неумолимого соблюдения скромности. Но как-то я набрел на удивительную, по-иезуитски точно рассчитанную мысль — она изящна и проста: скромность, конечно, украшает мужчину, сказано в ней, но настоящий мужчина может обойтись без украшений. Поэтому в конце я все же приведу записки, составляющие предмет моей гордости.
«Благодарю Вас, у меня ощущение, словно я выкупался в чем-то хорошем».
«Игорь, почему же Вы не предупредили, что будет так смешно? Я бы взяла запасные трусики».
«Когда мне хочется умереть, я читаю Ваши стихи и снова остаюсь жить. Спасибо Вам. К сожалению, не еврейка».
А последняя записка — в стихах. Она из Питера. Я, прочитав ее, позорно прослезился от довольно редкого для меня ощущения, что живу не напрасно.
Вы — друг насквозь прореванных ночей,
какое счастье — вслух произнести:
я привожу к Вам юных дочерей,
еще надеясь внуков привести.
И в зале, переполненном опять,
какое счастье полукровке маме
в глазах детей еврейство увидать,
не топтанное злыми сапогами.
Высокое искусство мемуара
Когда меня порою спрашивают, как продвигаются мои воспоминания, я честно отвечаю, что все время сомневаюсь, так ли и о том ли я пишу, поскольку нет единого рецепта, как писать наверняка, чтоб это было интересно и трогательно. Говоря так, я кокетничаю и понтуюсь. Потому что с неких пор я твердо знаю, как и что следует вспоминать, вороша былое и тревожа прошлое. Давным-давно (уж лет пятнадцать минуло) попалась мне книжка мемуаров — образец высокий и безусловный. Автора я называть не буду (ведь, наверно, дети с внуками остались), только рядом с ним барон Мюнхгаузен — действительно самый правдивый человек на свете. Имя автора — Арнольд, и вспомненное им я не могу не изложить, хотя язык мой слаб, и восхищение от доблестей Арнольда сковывает мне гортань. Но все-таки решусь, поскольку книга эта канула бесследно в Лету, а являла — подлинный шедевр воспоминательного жанра.
Об отце своем пишет Арнольд восторженно, но смутно: принимал участие в революции, сидел почему-то как «злостный сионист» (книга написана в Израиле, отсюда, очевидно, и формулировка обвинения), после работал в издательстве, читал лекции в университете — ни в одной из мемуарных книг я имени отца не обнаружил. Что довольно странно, ибо у Арнольда я прочел, что, например, Владимир Маяковский, из Парижа возвратясь, в тот же день явился в их семью с отчетом о поездке и впечатлениях. Когда же Маяковский застрелился и его сжигали в крематории, то семилетнему Арнольду стало страшно, поэтому все время мальчика держал на руках ближайший друг семьи Борис Пастернак. А после кремации он к ним поехал на обед, поскольку ближе никого у него не было. В том же тридцатом отца Арнольда посадили, вследствие чего в их дом потоком потекли с сочувствием и помощью ближайшие друзья — я перечислю только нескольких из них (в кавычках — цитаты из Арнольда). Заходил Исаак Эммануилович Бабель. «Помню, как он рассказывал про жулика Беню Крика». Корней Иванович Чуковский к ним «изредка наведывался из Ленинграда в Москву». Теперь цитата длинная: «Особым праздником для всех нас были наезды Анны Андреевны Ахматовой. Она приезжала без предупреждения, прямо с вокзала являлась к нам с авоськами, корзинками, саквояжем, в недрах которых были вкуснейшие «ахматовские» пирожки, печенья собственного изготовления, орешки…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу