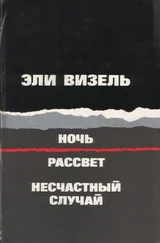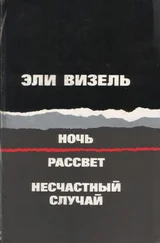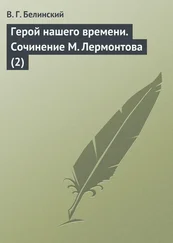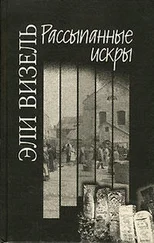В Палестине, где всегда находилось сердце, совесть еврейского народа, положение было такое же. До самого конца 1944 года там так и не нашли способа дать знать обо всем — и помочь, если нужно, — большим еврейским общинам, которые уже подстерегала смерть. Когда в Будапешт прибыло несколько парашютистов (а результат этого нам известен по процессу Кастнера), им нечего было делать: половина Европы уже была очищена от евреев. Почему людей, в форме или без формы, не послали раньше? Нам скажут, что была война. Ну и что? Молодые пальмаховцы все пошли бы добровольцами. Из сотни избранных десять добрались бы до места назначения; ну, не десять, ну, пять; они могли бы организовать сопротивление, бегство, спасение.
История венгерских евреев, в частности трансильванских, — это один из самых волнующих эпизодов войны. Их массовая депортация произошла в мае-июне 1944 года, за несколько дней до высадки в Нормандии. На Освенцимском вокзале они еще не знали, какая судьба их ожидает. Даже страшное название «Освенцим» ничего им не говорило. Они не знали, что это такое. А если бы знали? Скольких можно было бы спасти? Не всех, конечно, но большинство. Красная Армия была за тридцать — пятьдесят километров; ночью хорошо была слышна артиллерия. Вокруг были горы; там можно было спрятаться, переждать — ведь до прихода освободителей оставались часы! Но им, этим набожным трансильванским евреям, говорили, что им нечего бояться, что их перевезут в глубь страны. И они поверили. Повторяю: это было в лето Господне 1944, когда каждый ребенок в Бруклине, Уайт-Чеппеле и Тель-Авиве знал, что Треблинка и Биркенау — не просто маленькие провинциальные вокзалы.
Но когда Иоэль Бранд домогается срочной встречи, чтобы сообщить о своей вдвойне трагической миссии, Хаим Вейцман просит передать ему, что он слишком занят и откладывает встречу на несколько недель. А ведь в своем письме Бранд ясно написал, что важен каждый час, что каждый день уносит десять тысяч еврейских жизней. Как мог Бранд не сойти с ума — навсегда останется для меня загадкой; непонятно, каким образом человеческая воля, приговоренная на вечную муку, может пережить это.
Поведение Вейцмана только иллюстрирует настроение всей страны, и потому это так важно. Люди вели себя с каким-то ошеломляющим, непостижимым равнодушием, так, словно то, что происходит «там», их не касалось. Подсознательно они твердили себе: а кто виноват? Могли бы приехать сюда; надо было брать с нас пример; не хватило смелости, идеализма — тем хуже для них.
Ицхак Грюнбаум, возглавлявший комиссию, которой было поручено спасение, рассказывает в своих мемуарах: он и его коллеги спрашивали себя, имеют ли они право использовать для спасения европейских евреев деньги, предназначенные для строительства Палестины. И позиция его была четко отрицательной. Сперва Эрец-Исраэль и только потом галут. Построить дом, завод, школу было важнее всего.
Молодой израильский поэт Хаим Гури в один прекрасный день вздумал порыться в старых тель-авивских газетах 1943–1944 годов. Он был потрясен. «Ничего не понимаю! — сказал он мне. — Знал бы ты, какие проблемы нас интересовали тогда! Муниципальные выборы в Хадере — первая страница. И где-то в уголке внутренней страницы несколько строчек: немцы начали уничтожение евреев в Люблинском — или Лодзинском — гетто».
Виноват в этом не народ, а его руководители. Они не оказались на высоте. Странно, но они проявили полное отсутствие инициативы, политической зрелости и отваги. Совсем недавно Нахум Гольдман признался в этом на заседании Исполнительного комитета Всемирного еврейского конгресса в Женеве. Крупные еврейские организации не нашли в себе сил прекратить внутренние междоусобицы ради того, чтобы достичь единства действий. Руководители американского еврейства бойкотировали «Чрезвычайный Комитет спасения еврейского народа» во все время его существования. На то, конечно, тоже были свои причины: никакого союза с неортодоксальными евреями как Бен Гехт или Питер Бергсон! Никакого сотрудничества с таким-то или с таким-то! А ведь они могли бы создать собственный Комитет спасения, в котором были бы представлены все партии, все организации. Но не создали.
И по всем этим причинам мы должны сказать следующее: для того, чтобы поднять процесс на настоящий моральный уровень — то есть на уровень абсолютной правды — господин Гидеон Хаузнер (или сам Давид Бен-Гурион, в качестве свидетеля) должен был бы склонить голову и вскричать так, чтобы его услышали три поколения: «Прежде чем судить других, мы должны признать собственные ошибки и собственные слабости. Мы не испробовали невозможное, и даже возможное мы не исчерпали до конца».
Читать дальше