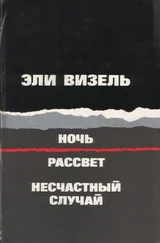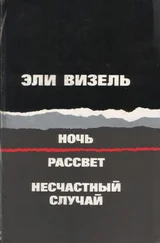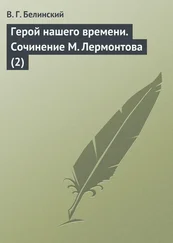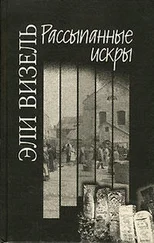Это он, он, мой друг, сумасшедший кантор, смотрел на меня, в этом не было никакого сомнения. Я видел, как он шел умирать, и это только доказывает, что он остался в живых; все те, кто вошел ночью в расщелину смерти, выплыли оттуда с наступлением дня, чистые и святые, более чистые и святые, чем те, кто не последовал за ними.
И вдруг я понял, почему он преследовал меня со времен освобождения: я видел его повсюду, потому что он и был повсюду, во всех глазах, во всех зеркалах. Мертвые вернулись на землю, и у всех был его облик; он был первый в этой династии сумасшедших; он — рок, ставший человеком.
У него теперь не было ни большого живота, ни всклокоченной бороды. Он уже не носил таллит катан под заплатанным пиджаком. И все-таки это был тот самый Моше, который в часы молитвы кричал на улице перед синагогой: «Горю, дети мои, горю, как огонь! Смотрите, дети, смотрите! Видите, каждый может гореть и не сгорать!» Все думали, что он пьян. Он любил выпить. По праздникам он приходил на собрания разных хасидских групп; собрания прерывались; он вскакивал на стол и пил прямо из бутылок, которые ему протягивали со всех сторон. Это был король-шут, пророк-шут, который мог позволить себе все. Чем больше он пил, тем прозорливее становились его речи. Он кричал: «Горю, дети мои, горю! Смотрите и поймите, наконец, что огнем зажигают огонь и огнем же его гасят! Горе тому, кто его погасит, горе тому, кто от него отстраняется! Смотрите, дети мои, смотрите, как я очертя голову бросаюсь в огонь!»
— Пойдемте, закусим, — предложил мой спутник.
— Прекрасно. Будем есть и пить. Непременно. Как когда-то.
Мы нашли на 46-й улице кашерный ресторан. Официант поставил на стол бутылку сливовицы. Мы чокнулись. Я сказал:
— Моше-сумасшедший пил один. Я должен был бы составить ему компанию; тогда я был слишком мал, не поздно ли сделать это сейчас? Хотел бы я знать.
Я налил по второй, по третьей. Я опрокидывал рюмку залпом; он потягивал маленькими глотками. Я думал: — И все-таки он переменился. Когда-то он был нетерпелив, ему хотелось опередить время. Может быть, он уже добежал до конца?
— Я прочел то, что вы написали о Моше-сумасшед-шем, — сказал он с легкой гримасой. — Вы, по — видимому, знаете его лучше, чем я.
— Лучше чем вы? Может быть, иначе?
— Нет. Лучше, чем я. Доказательство: вы о нем говорите, он вдохновляет ваши рассказы. Потому-то я и хотел встретиться с вами. Что вы о нем знаете? Какие у него были корни, стремления, тайные замыслы? Вы уверены, что он был таким, как вы описываете? А не пользовался ли он своим сумасшествием, чтобы достичь какой-то одному ему известной цели? И уверены ли вы, что он был убит в Освенциме?
Мне хотелось перебить его, сказать: — Вы не так меня поняли, я не так выразился, не так написал и вы не так прочли. Теперь я знаю истину, истина в том, что Моше-сумасшедший не умер и не умрет никогда, и образ его никогда не угаснет. Но я ничего не сказал; я сидел под градом его слов, которые сыпались на меня как справедливое и заслуженное возмездие. Наконец я не выдержал и закричал:
— Чего вы от меня хотите? Что я вам сделал? Кто дал вам право судить и обвинять меня? Моше-сумасшедший? Он никого не осуждал, а вы осуждаете. Во имя чего? Во имя кого?
Он положил руку мне на рукав, стараясь успокоить.
— Вы вспылили, не надо на меня сердиться. Если я вас задел, то прошу прощения.
Я думал: «Да, он все-таки изменился. Моше-сума-сшедший в жизни ни у кого не просил прощенья, даже у Бога, особенно у Бога».
Он выпил еще глоток и тихо добавил:
— Я был так заинтересован, что, понимаете, даже злоупотребил вашим добрым отношением.
— Не будем об этом говорить. Выпьем. Лучший способ помянуть кантора — это выпить.
Чтобы все загладить, он залпом проглотил рюмку, потом сказал нерешительно:
— Последний вопрос. Может быть, он будет вам неприятен. Вы говорите о нем с любовью. Всегда с любовью. Вы говорите о нем так, как я говорю о своем отце. С чем это связано?
Ему хотелось рассказать мне свою жизнь, все, что он пережил до, во время и после войны. Мне не хотелось об этом знать. Я сбивался, сердился, мысли мои путались, я терял нить.
— Лучше вернемся к вашему вопросу. Почему я вспоминаю о нем с любовью? Да потому, что больше никто этого не сделает. Потому что он никому не был отцом, никому не был сыном. Ни домашнего очага, ни связей, ни положения: что называется — свободный человек. Ничто внешнее его не соблазняло и не пугало. Он был одинок, неуравновешен; из своего безумия он сделал общее веселье, а из одиночества — общее достояние. Он был вожатым, он показывал дорогу. Он был ясновидящим; он никогда не пил дважды из одного стакана, не повторял дважды один и тот же опыт. Разве мог бы я воссоздать его образ без любви и его судьбу без зависти?
Читать дальше