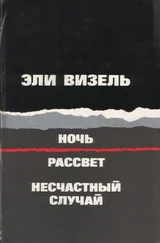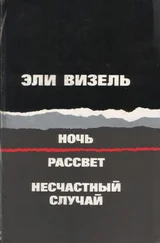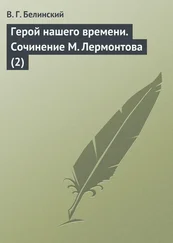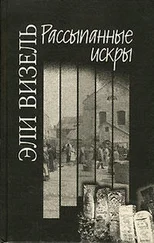Машина должна была жцать меня на Соборной площади. Испанец пошел меня провожать. Голова у него была опущена, он смотрел себе под ноги. Площадь была пуста, машины не видно было. Я успокоил своего провожатого: ничего, без меня машина не уедет.
Мы два раза обошли здание, и мой гид, вернувшись к своим обязанностям, дал мне дополнительные объяснения по поводу собора Санта Вирхен дель Пилар. Очень усталые, мы вошли внутрь, уселись на скамейку, и там, в тишине и полутьме, где, казалось, ничего больше не существовало, он попросил прочесть ему в последний раз завещание, которое еврей из Сарагосы написал когда-то, думая о нем.
Несколько лет спустя, находясь проездом в Иерусалиме, я шел в Кнесет, где происходило неслыханно бурное заседание по поводу политики Израиля по отношению к Германии. На улице Кинг Джордж меня остановил прохожий.
— Постойте! Одну минуточку!
Мне не понравилась его манера. Я его не знал, к тому же у меня не было ни времени, ни охоты заводить знакомства.
— Простите, — сказал я, — но я спешу.
Он схватил меня за руку.
— Не уходите, — возразил он повелительным тоном. — Я должен с вами поговорить.
Он говорил на иврите запинаясь. Похоже, турист, или недавний эмигрант. А может — сумасшедший, нищий, мечтатель: их в Вечном городе хватает. Я попробовал высвободиться, но он вцепился в меня не на шутку.
— У меня к вам вопрос.
— Ну, давайте, только поскорее.
— Вы меня помните?
Я боялся опоздать, я сказал, что он ошибся, с кем-то меня спутал.
Он резко оттолкнул меня.
— И вам не стыдно?
— Вовсе нет. Что вы хотите, моя память несовершенна. Да и ваша, по-видимому, тоже.
Я уже уходил, когда человек выдохнул одно слово:
— Сарагоса!
Я остолбенел от изумления, я не мог проронить ни слова. Он здесь? Здесь, передо мной, со мной? Я жил в мире, где галлюцинации в порядке вещей. Я, как свидетель со стороны, присутствовал при встрече двух городов, двух разновременных эпох.
Чтобы убедиться, что я вижу это не во сне, я повторял: Сарагоса, Сарагоса, Сарагоса…
— Пойдемте, — сказал человек. — Я хочу вам кое-что показать.
В тот день я уже не думал ни о Кнесете, ни о дебатах, которые надолго лягут тяжким бременем на политическую совесть страны. Я пошел с испанцем к нему домой. Здесь тоже у него была скромная двухкомнатная квартира. Но на стенах ничего не было.
— Подождите, — сказал он.
Я рухнул в кресло, а он вышел в другую комнату. Вернулся он оттуда со знакомым клочком пергамента, который был теперь забран под стекло.
— Теперь смотрите, — сказал испанец. — Я выучился читать.
Мы сидели с ним до наступления ночи. Пили вино, болтали. Он рассказывал о своих друзьях, о работе, о первых впечатлениях. Я — о своих путешествиях и открытиях. Я сказал:
— Мне стыдно, что я вас забыл.
Он улыбнулся снисходительно:
— Может, и вам нужен такой амулет, как у меня, чтобы не позволял вам забывать.
— Покупаю его у вас.
— Невозможно. Ведь это вы мне его дали.
Я встал. И когда мы уже пожимали друг другу руки на прощанье, хозяин с некоторым удивлением сказал:
— А ведь я вам еще не сказал, как меня зовут.
Он помолчал, для вящего эффекта, и в глазах его засветилось добродушно-лукавое выражение:
— Меня зовут Моше бен Абрахам. Моше, сын Абрахама.
Из всех лиц, связанных с моим детством, яснее всех я вижу лицо Моше-сумасшедшего. Словно я остался для него единственной связью, как и он для меня.
С годами я забуду кое-кого из товарищей своих игр и большую часть тех, кого знал перед войной и во время войны. Но не его. Как будто мы находимся один у другого в плену. Куда бы я ни пошел, он идет впереди меня. Порой я не знаю, кто из нас кого преследует.
А ведь я знаю, что он давным-давно умер; его смерть совпала со смертью моего детства. Но он отказывается это признать. Он как бы злоупотребляет своей привилегией покойника и мертвеца, отрицая факты.
Факты неопровержимы: приговоренный дважды, и как еврей, и как душевнобольной без средств к существованию, он был отправлен из гетто с первой же партией. Первая остановка: старая синагога. Моше воспользовался этим, чтобы вести молитву. Он смеялся. Это был величайший день его жизни: он никогда и вообразить не мог, что будет молиться в этом прославленном месте, перед собранием в три тысячи человек. Вторая остановка: вокзал. Моше пел и танцевал, то ли для того, чтобы ободрить других, то ли потому, что он никогда не ездил поездом. Третья и последняя остановка — перрон другого вокзала, маленького, откуда не уезжали уже никуда.
Читать дальше