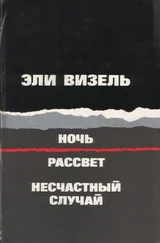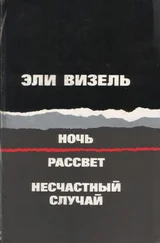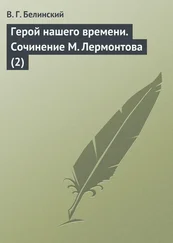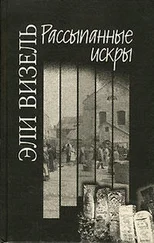— Нет, я этого не знала.
— Пока Саша был жив, вы пели, вы веселились вместе. По вечерам, или в конце недели, вам случалось обниматься, говоря: у нас есть сын, красивый, счастливый, мы имеем право открыто выражать свою радость. Потом, когда случилось несчастье, Катриэль обнимал вас, думая: у нас был сын, он умер, но мы не имеем права плакать; погрузиться в печаль значит признать наше поражение. Ему было необходимо знать, что вы счастливы. Даже потом. Особенно потом. От вас, от вашего ответа, зависела его вера в будущее, в самого себя. Вы это знали?
— Нет, я этого не знала, — вздыхает Малка.
На другой стороне темной площади дрожат огоньки свеч; голоса нескольких молящихся, которые все еще поют псалмы, слабеют, напоминая то пение слепых, то шепот испуганного путника, заблудившегося в чаще леса.
— Мне холодно, — говорит Малка.
Я снимаю пиджак и накидываю ей на плечи. Пальцы мои невольно касаются ее затылка и остаются там: я не в силах их отнять. Там их вечное место — с тех пор, как первое желание пробудило человека. Мне хочется трогать эту женщину, как Катриэль ее трогал, говорить с ней так, как Катриэль говорил. Пальцы мои слышат, как ее тело отвечает моему. Пусть исчезнет то, что нас разделяет: будем одно и не будем ни о чем думать.
— Мне холодно, — говорит Малка, вздрагивая.
Я тоже дрожу, а ведь мне-то не холодно. Напротив, я весь горю. Я задыхаюсь. А Катриэль? Я уже не знаю, чья жена Малка — его или моя, я даже не знаю, кто такой Давид — не Катриэль ли он?
— Пойдем, — говорю я в минуту просветления.
Малка встряхивает головой в знак согласия. Я помогаю ей встать. Завистливый, отвратительный Велвел издает коротенький сообщнический смешок. Цадок опускает веки, чтобы не показать, что меня осуждает. Шломо, участливый друг, шепчет:
— Иди, брат: ночь длинна, быть может, тебя кто-нибудь ожидает.
Сумасшедшие корчатся от смеха, нищие кричат слова ободрения и дают советы. Молодой летчик, вытаращив глаза и вытянув шею, давится от волнения. Меня зло берет: за кого они меня принимают? Какие намерения мне приписывают? Неужели они в самом деле воображают, что…
Мы обходим площадь. Малка берет меня за руку, и ее тепло проникает в меня. Мы усаживаемся под самой Стеной, в дальнем уголке, прямо на землю. Подумать только, что это могло и не произойти со мной. Подумать только, что это могло произойти с кем-нибудь другим.
— Говори, — просит Малка.
Она обращается ко мне на ты! Это что-то значит, но я лучше не буду об этом думать, не дам себя увлечь.
— Говорить? О ком вы хотите, чтобы я говорил?
— Все равно.
— О Катриэле?
— Все равно. О нем, о тебе. О нас. О ком хочешь.
— Как рассказать вам о нем? Он ушел слишком рано, слишком быстро. Раньше меня. Смерть убила своего посланца.
— Не говори о смерти. Найди что-нибудь другое. Расскажи мне о себе.
— Что вам хотелось бы узнать? Что смерть опять сыграла со мной одну из своих шуток?
— Не говори о смерти, — повторяет она, съеживаясь.
Я думаю о Саше, о Катриэле, о Гаде. Если бы Саша был жив, он как раз сейчас вступал бы в неблагодарный возраст, в мятежный возраст: он поставил бы под вопрос системы и ценности, разрушил бы установленный порядок. Когда-нибудь он обратился бы к отцу с вопросом: «По какому праву ты произвел меня на свет, скажи?».
— Твои мысли меня пугают, — говорит Малка. — Они удаляют тебя от меня, от нас.
За эти годы другие женщины не раз точно так же просили меня говорить или не говорить о пережитом, думать или не думать о нем. Их всегда интересовало только настоящее и будущее: они строили планы путешествий, общей жизни, любви, требовали верности и обещания вместе, обязательно вместе, бороться против всего, что может воспротивиться нашим шансам, нашим возможностям быть. Кусочек дороги мы проходили вместе, а потом я опять оставался один.
— Смотрите, Малка, — говорю я. — Гора движется. Она карабкается на небо. Посмотрите — гора карабкается на небо. Видите? Она врезается в небо.
— Я не вижу неба.
— А гору?
— Гору вижу.
— Расскажите, что вы видите.
— Мужскую голову. Тяжелую и темную. К ней запрещено прикасаться. Она берет в плен того, кто приблизится, кто попытается любить ее. Ее любит небо.
В своей огненной лихорадке я задаюсь вопросом, о ком она думает: обо мне или о Катриэле? Может быть — о Саше?
Полузакрыв глаза, она прижимается ко мне и предлагает мне свое лицо, свои трепещущие губы, свое желание. Как она осмеливается? С ума сойти можно. Неужели же я проделал всю долгую дорогу, чтобы попасть в эту ловушку? Я стискиваю зубы, напрягаю мускулы: надо сопротивляться, надо овладеть собой, чего бы это ни стоило. Давид обязан сделать это ради Катриэля и ради Малки, которая не только Малка. Катриэль — это все мои товарищи, которых я больше не увижу. Малка — это все женщины, которых я желал, любил и страшился. А я, кто я? Я так долго носился по всевозможным лабиринтам, так долго вызывал смерть, чтобы по ней определить направление, что уже не знаю, в чем смысл моего бегства и отречения.
Читать дальше