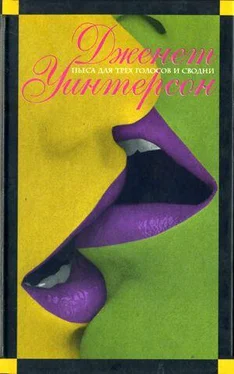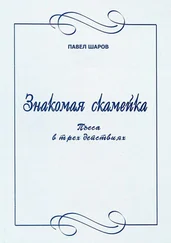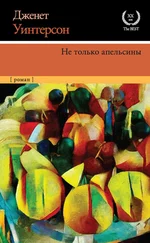Была зима. Закон о Чистоте Воздуха в трущобах не действует. Их обитатели жгут все, что могут: тряпки, шины, тела. Крематорий – место очень тихое. Я пересек реку, проехав по Башенному мосту. Огромные, мощенные булыжником челюсти моста раскрылись, пропуская невидимый в тумане пароход. Я слышал звон колокола и слабый скрип огромных цепей, на которых висел мост. Мне послышался и бой, барабанный бой шагов в мертвой тишине, окутавшей Тауэр. Помню тонкие решетки, вмурованные в толстый камень. Но видел ли я чье-нибудь лицо?
Внизу струилась серая вода, проталкиваясь мимо безлюдных пристаней. Я хорошо знал дорогу. Мать часто водила меня в Тауэр на каникулах. Одного из моих предков там казнили. Как и я, он был католиком.
Дорогу я знал, но улицы – как и все улицы Сити – постоянно ремонтировались. А если не ремонтировались, то их перекрывали на случай очередной демонстрации. На случай бомб. Ради Общественного Блага. В те дни обществу делалось столько блага, что странно, как мы все не стали святыми.
Мне наития свыше не дано, а путеводитель я забыл дома. Наконец – частично из-за усталости, частично отчаявшись видеть все новые трепещущие оранжевые ленты и очередные ограждения, – я плюнул на все и свернул на улицу с односторонним движением, где маячили узкие дома, напоминавшие полицейские дубинки. Темнота, туман, грязь, старуха толкала перед собой детскую коляску на высоких колесах. Я попытался объехать ее и врезался бампером в кирпичную стену. Пустяки, это всего лишь «Даймлер».
В общем, долго ли, коротко ли, но я нашел дом, который искал. В незашторенных окнах мигал голубоватый свет. Электричество дорого, однако при мерцающем свете телеэкрана вполне можно заварить чай и выпить чашечку-другую.
«Гендель, когда ты вырастешь, то должен будешь принести в этот мир немного добра». Я держал мягкую материнскую руку и спешил за ее каблуками-шпильками. Я видел ее только раз в день – на совместной прогулке в три часа. Мать была высокой колонной, закутанной в серебристый мех. А отец – памятником из твида. Я тогда не имел представления, что на свете вообще существует уязвимая плоть.
На кровати лежала обнаженная женщина. Она разорвала свое хлопчатобумажное платье. Ее мужчина этими лоскутами вытирал ей лицо. В комнате не было света, если не считать коптящего керосинового фонаря. Вроде того, которым пользуются в гаражах.
Я попросил горячей воды. Ее не было.
Попросил кусок чистой ткани. Ее не было тоже.
Мне хотелось закричать: «Да что же это такое? Сцена из Диккенса?» Они оба пялились на мой вечерний костюм. А что я сам об этом думаю? Действительно сцена из Диккенса?
Я снял с себя фрак, манишку, жилетку и жесткую от крахмала рубашку. Разрезал рубашку на шесть чистых лоскутов и дал мужчине денег, чтобы тот мог купить горячей воды у соседей. Он ушел. В комнате было тихо. Женщина лежала и смотрела на меня.
– Застрял.
– Да.
Я опустился на колени и провел ладонями по ее торжествующему животу. Как она не лопнула? Я знаю «как», я врач, и все же – как она не лопнула? Ее кожа натянулась со рвением мебельной обивки. Женщина была гладкой, совершенной, без морщин, без складок, если не считать выпуклости на животе, напоминавшей круглый табачный кисет. Коричневый табачный кисет.
Она раздвинула ноги, и я уныло опустился между ними на колени. Я никогда не видел женскую… женскую… как это называется? Вагина? Бесконечные поперечные разрезы, взрывающиеся в мозгу диаграммы, образцы, обработанные формальдегидом, сморщенная, высушенная на солнце вагина. Бобрик? Не годится. Ничего похожего ни на бобрик, ни на киску, ни на лисичку. Срамные губы? Что же срамного в этих нежных складках и монашеском клобуке, который скрывает… скрывает… бусинку, косточку, зернышко, жемчужину, пуговку, горошинку…
– Поскорее, пожалуйста.
Чтобы взяться за головку, я должен был проникнуть в нее, но у меня грязные руки. А вдруг я заражу ее? Или она меня?
Младенец еще раз попытался вырваться наружу, и она закричала. Если бы я отвез ее в больницу, у нее бы отобрали ребенка. Скорее всего, в Лондоне она нелегально.
На полу стояла бутылка водки. Слава богу, что не джин. Тогда был бы вылитый Диккенс.
Я хмыкнул и поднял ее. На дне еще оставалась пара дюймов жидкости.
– Это мне от боли.
Я плеснул водкой на руки и вымыл их.
– Вы еврей? – спросила она.
– Радуйтесь, что не акушер. Иначе мне пришлось бы разрезать вас напополам. Причем немедленно.
Она умолкла. И кричать перестала. Женщина молчала, и когда я ввел руку в окровавленное тепло ее тела. Лежала тихо, с достоинством раздавшись вширь. Зато я извивался всем телом, потел, пригнувшись, выгибал спину. Мои волосы падали на ее ляжки.
Читать дальше