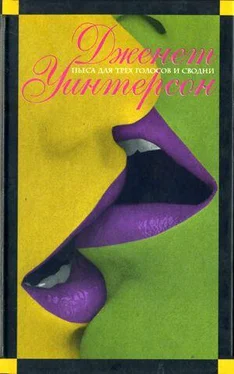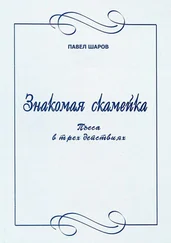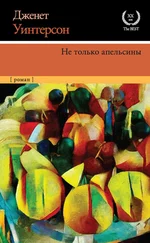«Я в плену у любви
И дрожу от желанья, которое горько и сладко…»
Она закрыла книгу. Закрыла глаза. И увидела лицо Руджеро.
«Я тоскую о нем, словно лань по красавцу-оленю…»
Она представила себе Руджеро с оленьими рогами.
В комнате на другом конце города Руджеро задумчиво смотрел в чернильницу.
– Я больна от любви, – сказала Сапфо. Потом засмеялась и взяла свой чемоданчик. Болеть от любви, конечно же, лучше, нежели болеть любовью.
В прошлом она радовалась любому кораблю, что причаливал к ее пристани, показывая ей широкий корпус или узкий киль, и сразу складывала багаж в его трюмы. Когда новое обиталище становилось слишком тесным, она бежала с корабля. Такова Сапфо, и это доказывала куча бумаг. Почему же тогда римская церковь сожгла ее стихи и предала анафеме? Галилея простили, но Сапфо прошения не было. Галилей больше не еретик, но Сапфо по-прежнему салфистка.
– Познай себя, – сказал Сократ.
– Познай себя, – сказала Сапфо, – но так, чтобы об этом не узнала Церковь.
Слово вселяет ужас. Обольщающее, намекающее, слово, что влечет трепещущую руку к запретному ключу. Слово, скрытое за дверью, слово, которое ждет, чтобы его выпустили наружу, ускользающее от цензуры, слово, от которого трескается шрифт. Слово, что несет не мир, но меч. Слово, которое утешает, как каменная соль. Слово, которое не кается.
Слова приходят на мой зов, но кто кого зовет? Ветер приносит вопль, которому сотни лет, плач, что зародился до смысла, плач, доносящийся из пустыни, где нет ни еды, ни питья. Оборванный пророк в пылающих одеждах.
Перед Словом простираются день и ночь, голод и холод насмехаются над ним, но Слово само себе день и само себе ночь. Слово Голод слово Холод. Я не могу есть свои слова и все же ем их. Я ем сущность, хлеб – и вбираю их в себя, слово и сущность, сущность и слово, в ежедневном благословенном причастии.
Кто кого зовет? Слово высекается из сущности, как скульптура из камня. Слово накладывается на сущность так же, как ветер точит скалу. Слова рождались и рождаются из столкновения. Слово вытекает из лётки и попадает в форму.
На дуле ветра – сокол.
Я люблю обман песка и моря. То, что кажется, – не то, что есть. Огромная протяженность неопределенности притягивает меня босую, полуодетую, когда в небесах нет никаких красок. Белое тело в белом платье на белом краю моря.
Она носила белые розы – не красные.
Когда Аполлон протаскивал звезды сквозь колеса своего фаэтона, она поднимала лепестки, падавшие к ее ногам. Полная луна горела над ее головой, как новенькая монета, а она отражалась в воде, узкий рог белый рог.
Она несла луну над головой, как святой носит нимб.
Она бросала лепестки в воду и колыхала звезды.
Именно этого она и хотела: раскачать, казалось бы, твердый мир, повиснуть над ним так же, как над ним висит луна, отбрасывать его ежечасной тенью. Нести белые розы – не красные.
Мудрая Сапфо. Разве я мудра? Разве мудро было влюбиться в Софию, одну из девятерых детей, если не самую непорочную, то самую трудную в угождении?
Мою Музу.
Было время, когда за ней ухаживали все поэты и философы, даже Сократ. Но она выбрала меня. В те дни я писала стихи. Писала от красоты, от любви, а благодаря ей – и от мудрости. От мудрости тела.
Наши ноги были босы, солнце палило, и ни одна мысль не могла избежать его тяжести. Солнце давило мысли так же, как давят пятками спелые гроздья. Жар и тяжесть преображали мысли, пока те не переставали походить на самих мыслителей. Мысли были сладкой отравой, и мы с Софией растягивались на берегу, пьяные от слов и густого вина.
Я совала слова в пустую бутыль и бросала их в море. Бросала далеко-далеко, отделяя от себя слова, рожденные мною, но не ставшие мной. Только дурак пытается превратить вино в виноградные гроздья.
Мир под завязку набит дураками.
Передо мной сейчас лежит перечень моих предполагаемых любовных связей, приведенный во множестве ученых томов на основе анализа моих стихов. Аттис, Андромеда, Гиринно, Эранна, Мнасидика. Их имена звучат, как названия драгоценных камней. Они и были драгоценными камнями, но не вправленными в мое сердце. То были этюды воображения. Ветер в тот день, пурпурное море, медный барабан, на мгновение отразивший смысл прекрасного лица, значили для меня столько же, сколько само лицо. Кого-то я любила, о ком-то мечтала, а чьи-то имена были грубо вытесаны в скале. Это не имело значения раньше, не имеет и теперь. Меня влекло и продолжает влечь то, что далеко. Веши, что требовали слов, вещи, жизнь которых я понимала так хорошо, что казалось, будто они – мои. Но моими они не были. Не единая плоть, но единый образ, причем образ могущественнее плоти.
Читать дальше