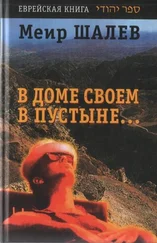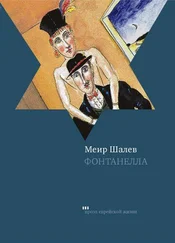— Чей ты?
— Папин, папин.
— Это мой ребенок, — говорит мне Яков снова и снова. — Посмотри на него. Это я его сделал.
Томление по ребенку, вспоминает он, было невыносимо сильным и нестерпимо сладостным, ожесточающим и размягчающим, обжигающим и леденящим вместе. Поселковые малыши знали, что если пораньше прибегут в пекарню, то получат от угрюмого пекаря булочку в подарок. А молодые женщины, шедшие по улице ему навстречу, смущались и злились, потому что его взгляд срывал с них платья и пялился на их животы и на те места, где в его воображении у них сходились ноги.
— Я уже на похоронах Биньямина думал об этом, — сказал он. — Я не мог сдержаться. Там было так много женщин. Это было поразительно. Я никогда не видел так много красивых девушек, как на его похоронах. Никто не ожидал такого. Словно стайка разноцветных бабочек приземлилась на кладбище. Как будто между солдатскими могилами расцвели цветы, как на балконе у того старого сумасшедшего араба в Иерусалиме, помнишь? Девочки из сельскохозяйственной школы, солдатки, студентки. Даже его учительница истории из старших классов и та была там. И не с другими учительницами, а с его подругами. И две Богом забытые пятидесятилетние бабы, которые приехали из Тель-Авива на открытой американской машине, обнялись, и вопили, и вопили, и вопили, точно две ночные кошки. Плакали о моем мальчике, который, наверно, проделывал с ними все те штуки, которые я не осмеливался делать даже в мечтах и никогда уже не сделаю при жизни.
Его кулак сжался внутри кармана.
— Биньямина еще не успели опустить в могилу, а я уже хотел нового сына. Совсем как тия Дудуч. Мне необходим был ребенок.
Нежность и гордость были сейчас в выражении его лица.
— Они любили его. У него было то, чего у меня не было никогда, — легкость в обращении с ними, понимание, что женщина — не фея, не ведьма, не черт и не ангел. То, что я понял лишь однажды ночью, а большинство мужчин не знают и не понимают до тех пор, пока у них не рождается дочь и они не видят, как она растет и взрослеет. Но тогда это уже слишком поздно. И уже никому не приносит пользы.
И вдруг засмеялся и покраснел:
— Когда я говорю «дочь», я не имею в виду Роми.
И все эти женщины, которым уже были ведомы волнующие подмигивания флирта, содрогания плоти и боль пересыхающего нёба, не могли истолковать взгляд моего брата, в котором тоскливая мольба сливалась с мучительной неотложностью. Им хотелось насладиться объединяющим всех возлюбленных чувством скорби и приятной причастности к погибшему, чувством хоть и весьма печальным, но все же не таким, которое невозможно вынести. Они неловко переминались с ноги на ногу, обнимали друг друга и вытирали черные и синие слезы.
Спустя несколько лет Роми привела домой свою армейскую подругу — полную, симпатичную девушку, уродливую на вид, жаждавшую прикосновений и любви. Они приготовили общий ужин, а ночью, когда хлеб начал подниматься и издавать свой запах, она неожиданно появилась в пекарне.
— Этот запах не дает мне уснуть, — смущенно сказала она. — Я не привыкла.
Она стояла возле гарэ и смотрела на Якова, на Ицика и на Иошуа, а когда первые буханки достаточно остыли, брат отрезал ей кусок свежего хлеба.
— Она держала его обеими руками и пожирала, как животное.
Всю ту ночь девушка оставалась в пекарне, объедаясь хлебом и хохоча, словно охваченная амоком, и Яков не прекращал размышлять об этом воплощении плодовитости, особенно трогательной, потому что очевидной всем, кроме нее самой. Очевидной этими грудями, соски которых еще не растянулись и не потемнели от беременности. Этим метрономом матки, розовой и юной, еще не потерявшей упругость мышц и каждый месяц истекавшей своими надеждами и мечтами других.
— Ты не поверишь, но я чуть не предложил ей это. В крайнем случае, она сказала бы «нет». Но я боялся, что она расскажет Роми, а Роми ведь не способна понять такие вещи. Или же она пришла бы сфотографировать нас в постели — для своей выставки.
Он вновь перевернул Михаэля, переплел его ногу с ногой и руку с рукой, как плетенку халы, и мальчик так и таял в звонком и громком смехе, воркуя и курлыча, пока отец проводил по его спине большой щекочущей кистью для бойи. Потом Яков покрыл изюминками соски на груди сына и волосинки его ресниц, разбросал маковые зерна по животу, коленям и груди, заполнил впадину пупка золотистыми ядрышками сумсума и приклеил на лоб ярлык пекарни.
— Чтобы знали, чей ты, — объявил он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу