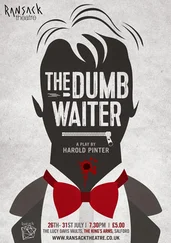Он очнулся лишь тогда, когда над ним наступило затишье. Под конец они, хохоча, стали расстегивать молнии брюк. Чем еще они могли нагляднее продемонстрировать свое превосходство, как не тем, чтобы ради смеха на него пописать, более убедительно выразить свое презрение было просто невозможно. Прошло две-три минуты, прежде чем они закончили, — наверное, они напились пива. После этого они убрались, один насвистывал песенку. Они весело провели вечер, прекрасное окончание четверга. Вероятно, у них вышло все так, как они хотели, возможно даже лучше.
Когда он снова очнулся и попробовал подняться, церковные часы где-то пробили один раз. Час ночи или половина второго. На него накатила боль, которой до этого он не чувствовал.
Когда Эрнест попытался встать, его буквально пронзила раздирающая боль, он так и свалился. Он не мог встать, не мог идти и не мог позвать на помощь, по крайней мере, из его уст не вырвалось ни малейшего звука, только кровь капала изо рта, голос пропал, он был обречен на то, чтобы вновь найти в себе то живое место, которого они на нем не оставили, он не умер.
О том, что здесь произошло, не сообщит завтра ни одна утренняя газета. Он был один, остальные испарились, не было никого, кто бы ему помог, ему бы надо в больницу, но он не пойдет в больницу. Никто его не слышал, никто не подошел, все разбежались. Подсохнув, моча на коже превратилась в клейкую пленку. Он не мог сдержать отвращения, и его вырвало. Он испачкал пиджак и брюки. Отвращение перед самим собой в конце концов придало ему сил, чтобы подняться. Надо — значит, надо. Вся одежда на нем была мокрой, изодранной и грязной, так же как его душа, что внутри, что снаружи — все выглядело одинаково. Все его мысли были о том, чтобы убраться отсюда подальше. Надо подняться и поскорее сматываться, добраться до дома и помыться, смыть грязь, которой его облили, от нее будет не так-то просто отмыться, но нужно хотя бы начать, нужно помыться, принять душ и лечь в ванну и лежать там до тех пор, пока запах крови, мочи и рвоты не улетучится из этого душного мира, пока запах мыла не вытеснит оскорбительный смрад унижения.
Наконец он встал на обе ноги и смог сделать несколько шагов. На то, чтобы добраться до дому, потребуется, может быть, несколько часов.
Проснувшись на следующее утро, он принял решение пойти к Клингеру. Письмо к Якобу он решил пока отложить.
Пятнадцатое октября 1935 года — и Эрнест помнил это так же отчетливо, как их первую встречу у пристани на берегу Бриенцерзее, — они расстались на перроне в Базеле, пожали друг другу руки и разошлись, растворились в толпах людей, спешащих откуда-то и куда-то. И хотя оба были уверены и клялись друг другу, что прощаются не навсегда, это прощание обернулось как бы случайно концом их взаимной любви, и, когда они через полгода снова встретились, она уже не возродилась, как мечтал о том Эрнест, но превратилась в безответную. Лучшие времена ушли безвозвратно.
Все, что последовало через полгода, когда они, как и было условлено, вновь встретились на вокзале в Базеле, на том же самом перроне, и вновь пожали друг другу руки, вызвало у Эрнеста оторопь: когда после долгих месяцев разлуки они увиделись, Якоб был холоден и замкнут. Эрнест пытался убедить себя, что виновата, наверное, человеческая природа: любой после долгой разлуки сначала ощущает некоторое отчуждение, но от него не могло ускользнуть, что в поведении Якоба появилась легкая отстраненность.
В то время как Эрнест еще какое-то время уверял себя, что прежняя необыкновенная жизнь вернется, что все былое можно повторить, вновь вызвать из небытия, Якоб для него просто изменился, он стал на полгода старше, на полгода взрослее, он повидался с родными, познакомился с новыми людьми, о которых ничего не рассказывал и которые на него явно повлияли. Иначе было невозможно объяснить превращение Якоба в замкнутого человека, происшедшее за полгода.
Но пока еще на дворе осень, еще ничего не случилось, и Якоб тогда еще тоже верил в радостную встречу, в постоянство счастья. Они пожали друг другу руки на глазах незнакомых людей, в присутствии которых они, соблюдая приличия, придерживались правил поведения, принятых между мужчинами, и, расставаясь осенью 1935 года, ограничились рукопожатием. Они избегали любых более откровенных прикосновений, не обнялись, например, по-братски, что было бы допустимо для родственников. Если бы они поцеловали друг друга в щеку, их, возможно, сочли бы за братьев, но они не решились сделать это на глазах у людей, ведь самый невинный жест мог их выдать.
Читать дальше