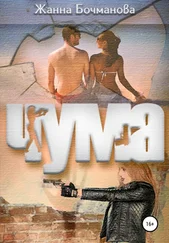«Я пришёл.
Прощай».
Последняя страница старого рассказа Габриэля, вырванная из «Литературы Нового Бедрограда», которая и навела вчера Максима на мысль, что искать Габриэля надо на Пинеге, теперь отскакивала от зубов не хуже телефонного номера кафедры.
Эта страница, помятая и отсыревшая, обнаружилась под стеклом на стенде с расписанием.
С расписанием поездов на платформе Пинега.
В четырёх часах пути от Бедрограда.
Разумеется, никто не видел, как Габриэль засовывал её под стекло. В билетной кассе пожали плечами, торговка с тележкой, полной сладкого молочного самогона — почти ликёра, который умеют настаивать до правильной мягкости только в этих местах, — отмахнулась. Сама торгует с обеда, когда пришла, лист под стеклом уже был.
«Ходи не ходи — всё впустую».
Максим ещё вчера мысленно поругивал студентку Шухер за томик слезливой росской классики на столе вместо профессиональной литературы, а теперь думал: может, зря?
Наверняка зря.
И ведь не сказать, чтобы сам он мало читал художественную. Немало; по крайней мере, достаточно, чтобы Габриэль не считал его бескультурным, бесчувственным, бездуховным (а у Габриэля высокая планка). Просто художественная литература заставляла Максима чувствовать себя беспомощным.
С профессиональной всё ясно, и степень научности тут роли не играет. Всю профессиональную литературу — от монографий и статей до историографических источников, которые какими только ни бывают, — объединяет одно: её всегда можно разобрать по полочкам, превратить в схему, в опорный конспект.
(Память услужливо подкидывает вчерашнее: ненормальный, контрреволюция, Гуанако, Университетская гэбня, голова гэбни, Ларий, Охрович и Краснокаменный, Ройш, Дима, водяная чума — пункты плана, параграфы в учебнике.)
И можно тешить себя иллюзией, что вся жизнь, все происходящие события укладываются в конспект, разбираются по полочкам, поддаются анализу, классифицируются, занимают положенное место в общей картине.
Только это не так.
Беспомощность возникает как раз тогда, когда приходит вдруг ясное — яснее некуда — понимание, что жизнь гораздо больше похожа на художественную литературу, чем на профессиональную.
А даже самый стройный и толковый опорный конспект не поможет разобраться ни в слезливом томике росской классики, ни в чём-нибудь поновее.
«На ветви дерева, почти касаясь ногами травы, висел я — уродливый, кривой, с нерасплёсканным хохотом на лице. Я должен был заглянуть в свои глаза, должен, но —
Слишком страшно?»
До сих пор страшно.
Максим прислонился лбом к стеклу и подумал, что невольно копирует сейчас такой привычный, затёртый и даже слегка раздражающий жест. Это Габриэль, Габриэль способен замереть на целый час перед окном, ничего не говорить, ничего не делать, тонуть в свете постепенно зажигающихся огней.
Повторение жестов — инстинктивное желание продлить присутствие. Естественная и понятная попытка психической синхронизации через физическую. Максим знал это как знает любой голова любой гэбни.
Должно быть, синхронизация бывает не только у гэбен. Наверняка.
Максим оторвался от окна, но краем глаза будто бы успел заметить на тёмном небе птичий силуэт (привидится же!). Какие птицы, это уже точно полный Габриэль — видеть в игре теней странные, невозможные образы. В Порту есть птицы, в Бедрограде — нет. На Пинеге есть: много и самых разных, и это так непривычно после звуков города, что даже немного сбивает с толку.
Было бы с чего сбивать.
Максим решительно развернулся к квадратной комнате и ещё раз её оглядел. Охрович и Краснокаменный тщательно блюдут у себя равновесие между хлевом и музеем. Запечатанные ящики, обрезки бумаги, пепельницы со спрессованными под тяжестью лет окурками, отвёртки и почерневшие от масла гаечные ключи, недособранные металлоконструкции неизвестного назначения соседствуют с мрамором, мамонтовой костью и резным деревом, с которых явно сдувают каждую пылинку.
Где-то во всём этом хаосе должен быть алкоголь.
Максим сунулся подряд в несколько незаклеенных коробок и — помимо внушительного запаса обезболивающих препаратов — обнаружил-таки с два десятка бутылок твиревой настойки. Выдернул пробку, принюхался и опрокинул в себя сколько смог.
Твиревая настойка горькая, вяжет рот. Максим где-то читал, что раньше с этой вязкостью боролись серебряными фильтрами, но теперь так не делают, дорого — в лучшем случае кинут в тару серебряную ложку ненадолго. Но к любому вкусу можно привыкнуть. Максим пьёт твиревую настойку пять дней подряд, Максим уже привык. Дима всё повторял «профилактика, иммунитет», но в последнюю неделю Максиму не нужны были дополнительные аргументы, чтобы пить. А твиревую настойку или нет — это уж что под руку попадётся. Сейчас что на кафедре, что на всём истфаке и медфаке, что у каждого университетского таксиста в бардачке обязательно обнаруживалось пойло на твири.
Читать дальше






![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)