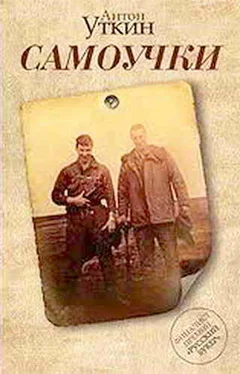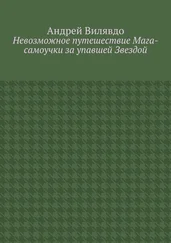— А как? — спросил он с заинтересованным удивлением.
— Оценивающе, — отвечал я. — Она знает толк в мужчинах. Если б не знала, то не сумела бы сыграть такую сложную роль.
Паша скосил на меня глаз. Белок его был мутно — красным, а зрачок, улавливая желтый луч софита, переливался спокойным и шутливым презрением, точно промышленный алмаз. Я потянул его за рукав, но меня перебила Софи. Соседи обратили на нас неодобрительные взоры, и мы снова послушно уставились на сцену.
Софи сидела на маленьком стульчике, Алекс расчесывала ей волосы.
Софи. Алекс!
Алекс. Да, мадам.
Софи. Ты знаешь, что такое… любовь?
Алекс. Да, мадам. Вчера господин Жанбе послал меня на конюшню за своей плеткой. Я пришла туда, и там никого не было. Только конюх Жан — Пьер.
Софи обернулась и внимательно посмотрела на Алекс. Алекс прижала к груди гребень.
Алекс. Он положил мне руку на грудь и крепко сжал ее — вот так — и говорит: “В этой ладони, малышка Алекс, моя любовь — самая сильная из тех, что встречаются на свете”.
Софи (вырывая у нее гребень). Как ты глупа!.. Ну что же ты замолчала? Что случилось дальше?
— Надо с этим заканчивать, — недовольно сказал мне Павел после спектакля. — Всякие скоты еще лапать будут! Скотобаза, — подчеркнул он, чтобы не оставалось сомнений в отношении его состояния. — Руки поотрываю.
Во время очередного просмотра — уже восьмого по счету — я осмелился выразить свои сомнения в доступной и понятной форме и наклонился к нему, вонзая в темноту, как булавки, необходимые слова, сочленяя краткие части спасительного заклинания:
— Искусство условно.
Однажды случилась неприятность настоящая, не имевшая к вымышленному пространству сцены ни малейшего отношения: Алекс вышла из театра вместе с конюхом. Они не спеша шагали вдвоем и разговаривали весьма натурально. Павел, поджав губы, смотрел на это из окна машины, которая по обыкновению катила вдоль тротуара с черепашьей скоростью.
— Условно, говоришь? — усмехнулся Павел.
— Решительней надо действовать, — неуверенно посоветовал я, с некоторым разочарованием глядя в спину Алекс. Мне тоже начало казаться, что воздушная малышка не имеет права изменять образу в той реальности, из которой она ступает на сцену.
Мимо машины сновали темные фигуры прохожих, заслоняя “дутую” оранжевую куртку Жан — Пьера, который прохаживался у края дороги с поднятой рукой. Алекс стояла сдвинув ноги, как солдатик, взявший на караул.
— А ну — ка, — скомандовал Павел.
Чапа с готовностью подрулил к актеру.
— Куда? — спросил он в опускающееся стекло.
Жан — Пьер разглядел в салоне нескольких человек и оглянулся на Алекс.
— На Лубянку, — проговорил он нерешительно, стараясь заглянуть в глубь машины, на заднее сиденье, откуда на него с лакомым выражением хищников смотрели наши четыре глаза. — Нет, не поедем, — заключил он и отошел к Алекс.
Стали останавливаться другие машины, и скоро они уехали в каких — то “Жигулях” с разноцветными крыльями.
— На Лубянку, — повторил Павел за Жан — Пьером меланхолично.
— За наркотой небось, — бросил Чапа и зевнул, широко распахнув рот.
— Почему за наркотой? — спросил Павел.
— Да я так, — усмехнулся Чапа и посмотрел на меня весело. — Предполагаю… Ну кто с нами куда поедет, сам подумай? — сказал он Паше.
Павел сделался мрачнее тучи. Он закурил третью подряд сигарету и следил, как кольца дыма постепенно истаивают в сумраке салона или расплющиваются, касаясь крыши.
— А у этого, ну, мужа этой соски, Софи этой, глаза в разные стороны смотрят, — сказал он мне. — Заметил?
— Нет, — сказал я.
— В разные стороны, — подтвердил он.
В довершение всей подозрительной буквальности служанка все — таки сошла со сцены, и они превратили свое существование в безумный, хмельной дурман. Мне представлялось, что это странное и страшное соревнование, что они вооружились совковыми лопатами и наперегонки выбрасывают из кузова в небытие полные лопаты своих рассыпчатых песчаных жизней, бисквит крошится, и невесомые крошки времени, синтезированного количеством, все взлетают, взлетают снизу вверх и кружат как перья, соединяясь с кремнистой пылью звезд. А я, как будто колхозный учетчик или свирепый сержант, считаю эти лопаты и, поглядывая на командирские часы, рисую в своем журнале аккуратные наклонные галочки. Даже самые события остались теперь в памяти лишь цветами: синий свет ночей, непроницаемо черные, как мир под одеялом, стены помещения, где давалось бесконечное представление, желтые слепые глаза софитов, впивающихся в стертый паркет подмостков, и нежно — бесцветное стекло бутылок от нежнейшего пива “Sol”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу