— Похоронила кого? — спросила старуха в лиловом халате.
— Нет, живой.
— Тогда повезло. Повезло тебе, милая.
— Здесь какое отделение?
— Второе гнойное.
Она спустилась в вестибюль, прошла по битому кафелю, вышла из дверей на главную аллею, прошла до гнутых решеток больничных ворот. Она долго ехала в троллейбусе, потом шла по длинной пустой улице, белой от тополиного пуха, возвращалась в пустой дом. Никого уже не было в доме — дочь уехала к подруге, Бассингтон уехал в Англию, Маша больше не приходит. Только кошка, старая сумасшедшая Нюра, ходит по пустым комнатам, ищет запах хозяина.
Так он лежал трое суток — потом легкие отказали, и он умер. Выдернули бесполезную трубку из трахеи, надавили снизу на челюсть, закрыли рот. Помер Сергей Ильич Татарников.
Зашел в палату доктор Колбасов. Он столько раз видел это тело разрезанным, он запускал руку во внутренности этого тела, он уже давно знал, что жизни в этом теле почти что нет — так, клочья жизни, обрывки души. Но вот тело умерло — и Сергей Ильич словно вышел из-под его власти и смотрел на него со стороны, и спрашивал: а хорошо ли ты, Колбасов, поступил со мной? Я делал что мог, говорил Колбасов. Сергей Ильич ничего на это Колбасову не ответил. Таких, как ты, много, говорил ему Колбасов, если бы мы лечили одного лишь тебя, а то надо было заботиться и о Вите, и о Вове-гинекологе. Виноват ли я, говорил Колбасов, что природа сильнее меня? Ну да, умирают люди, уходят, а я остаюсь здесь, и что мне делать, если медицина не справляется с природой? Плакать Колбасов не умел. Он видел уже слишком много смертей и привык. Его удивляло то, что ему хочется заплакать, — хотя слез и не было. Он глядел на сухое лицо мертвого человека — и кусал губы.
Позвонили жене.
— Вы подходите в больницу, Зоя Тарасовна.
— Что? Что случилось?
— Вы подходите.
— Умер? Скажите, умер?
— Подходите к главному корпусу.
— Нет, — крикнула она, — я не приду! Не приду! Зачем? Зачем вы это сделали!
По моргу бегала рыжая кошка, она мерзла. Она была похожа на Нюру, кошку Татарникова, хребет ее выпирал из тощего тела, а живот был большой, болтался мешком. Кошка не испугалась посетителя, потерлась о ногу.
Антон подошел к белой железной двери, нажал на звонок — и далеко за дверью раздались шаги.
— Тебе кого? — Так спросили, словно посетитель пришел в гостиницу и спрашивает одного из гостей. — Татарникова? Это вчерашний, значит, длинный. Давно его приготовили.
Работники морга ушли в холодное отделение, где в выдвижных ящиках содержались трупы. Там уже стоял гроб с приготовленным для прощания телом Татарникова. Рабочие поместили гроб на низкие носилки на колесах, выкатили в комнату, предназначенную для панихиды. На Сергея Ильича надели серый пиджак, который принадлежал еще его отцу и который Сергей Ильич надевал по торжественным случаям. Покойнику повязали черный галстук, хотя при жизни он галстуков не носил.
— Ты один? — спросили у Антона.
И Антон сказал «да». Работники морга посовещались, стоит ли ради одного посетителя перекладывать гроб с носилок на стол, и решили оставить как есть.
— Десять минут тебе хватит? — И они ушли обратно, в ту дверь, из которой выкатили гроб.
И Антон остался вдвоем с Татарниковым.
Он потрогал его лицо, очень холодное, твердое лицо, и заплакал.
Антон стоял прямо, вытянув руки по швам и сжав кулаки, глядел в мертвое лицо Татарникова и плакал. Ему стыдно было плакать, он чувствовал, что плач неуместен рядом с мертвым Татарниковым, и он силился преодолеть себя, но слезы стояли у него в глазах, и он видел жесткое желтое лицо Татарникова словно в тумане. Антон стоял у изголовья гроба и смотрел на высокий холодный лоб с седой прядью жидких волос, на огромный нос, превратившийся в клюв от того, что плоть высохла и кожа обтянула хрящи, на глубоко запавшие глазницы.
Вот он лежит, Сергей Ильич Татарников, он больше никогда не пошутит, не улыбнется бескровными губами. Он больше не скажет никому своих едких слов, он не откроет книгу, он не закурит сигарету. Он умер, он больше уже не живой, его ничего больше не связывает с нами — не осталось ничего, что было бы общим у нас и у него. Его нет, его с нами нет, он ушел далеко, на другой конец своего холодного поля, и след его заметает снегом. И можно кричать ему вслед, он все равно не обернется, даже неизвестно, слышит ли он, доносится ли до него крик.
Антон глядел на покойника так пристально, как мог, чтобы запомнить каждую черту уходящего лица, он сжимал кулаки крепче, ногти вдавились в ладони.
Читать дальше
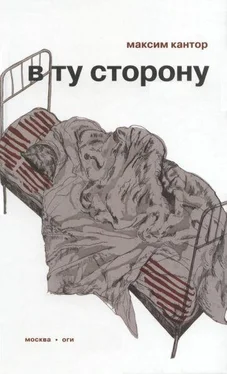







![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

