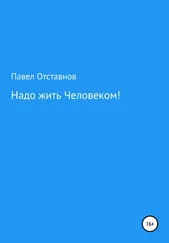Ругал Михаил Ильич жизнь в Набережном всегда, и в советское время, и ныне. Но пришло время выбирать – и выбрал эту руганную и переруганную им жизнь. "Чудно!" – с сердитой, но ребячливой веселостью подумалось ему.
– Будем, мать, жить и умирать здесь, – одним августовским вечером сказал он Ларисе Федоровне.
Но она, уже засыпавшая, смаявшаяся за день по хозяйству, ни о чем и не спрашивала мужа, не требовала никаких от него решений и ответов. Он же молчал и супился весь этот день; а когда утихли за стенкой родственники, вот, сказал. Сказал строго и твердо, как будто отсекал чье-то противное ему мнение или словно бы супруга только что возразила ему, спорила отчаянно и страстно.
Лариса Федоровна вздрогнула, переспросила, потягиваясь. Он повторил, но скороговоркой, рубяще, как будто спешил высказаться, как будто боялся, что потом скажет уже не так, устыдившись этой внешней приподнятости в словах. Она не удивилась и сразу отозвалась:
– Ясное дело, что здесь. Как же иначе? А теперь спи, Христа ради, спи.
– Сплю, сплю, – чему-то своему усмехнулся он, поудобнее устраиваясь на подушке. Казалось, теперь совсем хорошо ему стало, не надо волноваться и по-пустому раздумывать о том, так живу или не так, так нужно было сказать или по-другому.
***
К концу июля – к началу августа Вера Матвеевна успокоилась-таки, поняла, объяснив своему благоверному, что легче ту "кривогорбую" сопку вместе со всеми родниками, с высоченными соснами, с булыжниками и черт знаем с чем еще перенести в Израиль или в другие благодатные края, но только не Михаила Ильича как-то хотя бы на пядь сдвинуть с его "заскорузлого" – была колка она в оценках, – "унавоженного" места.
– Пусть живут, как знают, – сказала Вера Матвеевна супругу.
– Уж не сомневайся: они знают, – угрюмо отозвался Александр Ильич.
– Два сапога – пара.
– Ты да я, что ли?
– Захотел – "ты да я"! Ты да он. Два стоптанных кирзовых сапога.
– А ты – хрустальная туфелька, наверное?
– А ну тебя.
– Обиделась?
– Еще чего!
Вера Матвеевна в самом деле ничуть не была сердита или обижена на мужа и тем более на его брата, лишь в себе холодно подытожила, что каждому, видать, – свое. Она была вполне довольна своей жизнью. Ради чего приехали сюда, выхлопотать пенсию, – выхлопотала, и мужу, и себе.
Вспомнилось ей, как в детстве отец своими сильными руками усадил ее, худенькую, попискивающую, на высокого, гривастого коня и под уздцы водил его по поляне. Ребятня с завистью смотрела на нее. Ощущения восторга и гордости остались в Вере Матвеевне на всю жизнь. Почувствовала себя на родине так, будто снова оказалась на том коне. "Не загнулся бы подо мной, такой толстущей, тяжелой бабищей, этот несчастный коняга", – в ладошку засмеялась она, как девочка.
– Ты чего? – спросил муж.
– Так, просто, – не хотелось ей откровенничать. Но неожиданно заплакала.
– Да чего ты сегодня – то ржешь, то ревешь? Валерьянки?
– Не надо. Детство вспомнилось, папа… царствие ему небесное. Пойдем на кладбище. Там и мама, и сестра моя Маша лежат.
И они вчетвером пришли на затерянное в набережновских лесах кладбище. Прибрали могилки, выпили и вспоминали былое, сидя кружком то у одного, то у другого холмика. И чувство родства и жаль по ушедшему так проняли Веру Матвеевну, что она, перебрав вина, разревелась, и ее пришлось вести домой под руки.
Но к августу в Вере Матвеевне накопилась усталость – не физическая, а души. Она сказала себе – не насмеливаясь поделиться своими ощущениями с мужем, – что устала здесь жить. Дружба дружбой, родство родством, родина родиной и даже могилки могилками, но жить охота счастливо, только счастливо, не терзая своего сердца, оберегая свое здоровье и свой покой. Жизнь Ларисы Федоровны и Михаила Ильича и всего Набережного и всей страны она считала кошмаром. Жить без денег, без работы, питаться с огорода, а зима, а холодные осени и весны и вся эта нескончаемая, дикая, первобытная Сибирь – кошмар, кошмар. И с оторопью мерещилось ей минутами, что весь мир – это только Сибирь, Сибирь, Сибирь. "Спасибочки, не надо, не надо!" – отвечала в себе Вера Матвеевна, будто кто-то навязчиво предлагал ей остаться навек в Набережном. И ей как-то раз приснилось, что она осталась-таки здесь: ее закрыли в каком-то таежном зимовье, и она с отчаянием увидела в щелку, как высоко в небе пролетел самолет, который должен был доставить ее туда, где тепло, где уютно, где ее хорошенькая квартира и ее маленькая душистая закусочная. Проснулась с дрожью и долго закутывалась в ватное толстое одеялом, хотя было тепло, стягивая его с мужа; так и не сомкнула глаз, боясь снова угодить в кошмарный сон.
Читать дальше