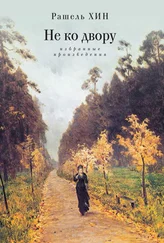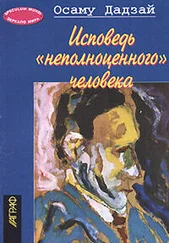Они спустились в низину. И здесь все густо заросло сухим мискантом. Мано остановилась. Ёдзо тоже остановился в пяти-шести шагах от нее. Неподалеку виднелась палатка из белой парусины.
Мано показала на палатку пальцем.
— А это солярий, — сказала она, — те, кто не тяжело болен, приходят сюда и, раздевшись догола, принимают солнечные ванны. Там и сейчас кто-нибудь есть…
Парусина была усеяна каплями росы.
— Поднимемся наверх?
Ёдзо, сам не зная почему, испытывал беспокойство.
Мано пустилась в путь. Ёдзо следовал за ней. Они вступили на узкую аллею, устланную сосновыми иглами. Притомившись, оба замедлили шаг.
Ёдзо, тяжело дыша, заговорил громким голосом:
— Ты здесь будешь встречать Новый год?
— Нет, хочу поехать в Токио, — ответила Мано так же громко, но не оборачиваясь.
— Тогда заходи ко мне в гости. Косугэ и Хида бывают у меня чуть ли не каждый день. Надеюсь, мне не придется встречать Новый год в тюрьме. Все как-нибудь уладится.
Он даже сумел вообразить дотоле невиданное жизнерадостное лицо смеющегося прокурора.
На этом завершить! Старые мастера всегда завершают повествование на такой многозначительной ноте. Однако и Ёдзо, и я, да, пожалуй, и вы, господа, уже сыты по горло такого рода лживыми утешениями. Нам все равно, что Новый год, что тюрьма, что прокурор. Разве нас по ходу этого рассказа заботил какой-то там прокурор? Все, чего мы желали, — это дойти до вершины. Что там есть? Что там может быть? Туда были устремлены все наши робкие надежды.
И вот они всходят на вершину… Это всего лишь утрамбованная площадка из красной глины в десять цубо. Посередине стоит круглая приземистая беседка, и даже дорожки, как в саду, выложены камнями. Все было покрыто росой.
— Как жалко! Фудзи не видно! — воскликнула Мано, у которой нос сделался ярко-красным. — Обычно она видна очень хорошо, вон там!
Она показала на облака, застилавшие небо на востоке. Солнце еще не взошло. Разорванные облака необычного цвета, клубясь, застывали и, застыв, вновь медленно протекали…
— Какая красота!
Легкий ветерок овевал щеки.
Ёдзо посмотрел вниз на далекое море. Прямо из-под ног уходил крутой обрыв, а там, внизу, можно было различить остров Эносиму, казавшийся совсем маленьким. На дне густого тумана колыхалось море.
И вот тогда… нет, на этом все кончилось.
перевод Т. Соколовой-Делюсиной
Бабочки
Он не старик. Ему совсем недавно исполнилось двадцать пять. И все-таки он старик. Старик, для которого каждый год прожитой жизни может быть засчитан за три, если не больше. Дважды он пытался покончить с собой. Один раз вместе с любовницей. Трижды его сажали за решетку. Как политического преступника. Он не смог продать ни одного своего рассказа, но написал больше ста. И все не всерьез. Так, плетение словес. До сих пор только при двух обстоятельствах волновалась его чахлая грудь и покрывались румянцем впалые щеки — когда он пьянствовал и когда, разглядывая женщин, давал волю безудержным фантазиям. И даже не в тот момент, когда он это делал, а когда вспоминал об этом. Чахлая грудь и впалые щеки — это правда. Старик сегодня умер. В его долгой жизни правдой были только рождение и смерть, все остальное — вранье. До самого своего смертного часа он лгал.
Вот он прикован к постели. Болезнь его — от беспутной жизни. У него было достаточно денег, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь. Но на кутежи их не хватало. Он не жалел о том, что скоро умрет. Он не понимал как можно жить, с трудом сводя концы с концами.
Обычно люди, когда приближается их смертный час, разглядывают свои ладони, рассеянно озираются, ловя взгляды близких, а этот старик чаще всего лежал с закрытыми глазами. Лежал тихо, занимаясь только одним — сначала он плотно сжимал веки, потом, медленно приоткрыв глаза, начинал часто-часто моргать. Он говорил, что тогда перед ним возникают бабочки. Зеленые, черные, белые, желтые, лиловые, голубые… Сотни, тысячи бабочек стайками порхают над его головой. Он нарочно говорил так. Дымкой из бабочек подернуты дали. Шорох миллионов крылышек напоминает гуд полуденных слепней. Бабочки бьются насмерть. Дождем падают вниз — пыльца, оторванные лапки, глаза, усики, длинные язычки…
Старику сказали: «Можешь есть все, что душе угодно», и он ответил: «Хочу бобовой каши». Когда ему было восемнадцать, он написал свой первый рассказ — об умирающем старике, который бормотал: «Хочу бобовой каши».
Читать дальше
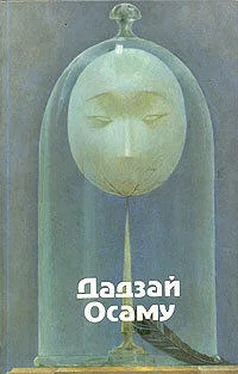
![Вивиан Итин - Страна Гонгури [Избранные произведения. Том I]](/books/29846/vivian-itin-strana-gonguri-izbrannye-proizvedeniya-thumb.webp)