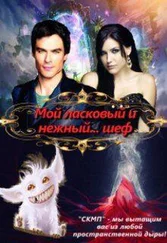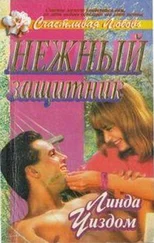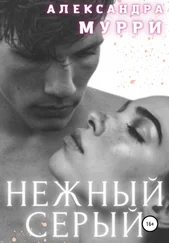Николай Борисович подхватил. И мы будем потрясены не только убийствами возле трона, но и условиями, при которых они стали возможны. И первое и главное из них — деспотизм! От него все зло. В нем источник несчастья нашего Отечества. Подле него истреблена совесть; рядом с ним угасает разум; в его соседстве умолкает всякая искренняя речь. Под его зловещей тенью не поднимется в полный рост молодое дарование, до срока увянет цветущая жизнь и оцепенеет дерзновенная мысль. От счастливчиков, окружающих трон, несет ничтожеством. Но берегитесь! Едва они учуют для себя опасность или подкуплены будут посулами уготованных им благ, как тут же растопчут свои клятвы и свою преданность и дотла сожгут остатки своей чести. В миг тайный и страшный они сбросят с головы властелина царский венец, вместо драгоценных барм накинут на него петлю и удавят, как последнего из рабов. Была надежда на Александра. О, если бы возвещено было смертному число его дней, Александр, конечно же, не оставил по себе четырнадцать миллионов в рабстве. Надежды кончились картечью четырнадцатого декабря и пятью виселицами. Извольте с той поры быть счастливым на Лобном месте! Иуде и его потомству в вечное владение пожаловали прозвище верный . Да, по вашей совести он верный , тогда как по нашей надо бы прибавить еще две буквы, чтобы именовать его скверный.
В сем месте филиппики Николая Борисовича кто-то из господ, кажется Василий Григорьевич, продекламировал: «Цари! Вас смерть зовет пред суд необходимый…» Все были тут любители российской словесности, и не составлявший исключения змееобразный господин тотчас признал: Княжнин, трагедия «Росслав». В сегодняшний после Пушкина день наивно и несколько отдает затхлым запахом сундука со старой одеждой, но как искренний порыв… Кстати. Был презабавнейший разговор меж Фонвизиным и Княжниным. «Когда ж наконец возрастет ваш Росслав? — спрашивает Фонвизин, к тому времени уже стяжавший известность своими „Недорослем" и „Бригадиром“. — Он все говорит: я росс , я росс , а все-таки очень мал». — «Мой Росслав вырастет, — отвечает Княжнин, — когда вашего Бригадира пожалуют в генералы». Каковы были остроумцы!
В тот вечер, однако, воздух синей гостиной насыщен был гораздо больше политикой , чем литературой. Правда, были помянуты нашумевшие «Три повести» Павлова (он, кстати, был в соседней, зеленой гостиной, где вовсю любезничал с дамами, и, глядя на него, кто бы мог подумать, что этот развязный, но небесталанный господин в юные свои годы стоял казанком у дверей княгини Апраксиной, матери милейшей княгини Софьи Степановны Щербатовой), стихи его жены, обладательницы таких глубоких, таких выразительных глаз, в последнее время таких невыразимо печальных, Каролины Карловны, почти все состояние которой он промотал за карточным столом, и, разумеется, «Таинственная капля», огромная поэма Федора Николаевича Глинки в двух частях, о которой разговоры не утихали и которую сам автор вместе с супругой при занавешенных окнах и запертых дверях иногда читали на два голоса в своем домике близ Сухаревой башни. Ах, то была изложенная высоким слогом чудная история, древний апокриф, который будто бы пришелся по душе даже Лютеру, беспощадно состругивавшему с древа христианства всякие, по его убеждению, виньетки вроде икон и пышных облачений и признававшему только канонические тексты.
По пути в Египет, в пещере, Пресвятая Дева прикладывает к своей груди умирающего младенца, сына главаря разбойников, захвативших Святое Семейство. Капля молока Девы исцеляет дитя. Федор Петрович, однажды бывший при чтении поэмы, не всегда и не все в ней понимая, чувствовал ее красоту и кое-что даже запомнил. «Промчится повесть в дальни лета, как пронесла среди песков, судьбы и будущность веков Святая Дева Назарета». Как одухотворенно и трогательно сказано, не правда ли?! Вообще, это была в высшей степени прекрасная и поучительная история, о которой он побеседовал бы с господами с куда большей охотой, чем о политике. Но — повторим — воздух в синей гостиной был насыщен ею, будто электричеством перед сильной грозой. И прозвучавшее, может быть, не совсем кстати имя Фонвизина дало повод вернуть беседу в прежнее русло. Он как-то спросил Екатерину: «В чем состоит наш национальный характер?» Господин с сигаркой, замолчав, принялся неторопливо стряхивать пепел в малахитовую пепельницу. Сию процедуру он свершал столь медленно, что Василий Григорьевич обратился к нему с увещанием не томить почтенную публику тягостным ожиданием.
Читать дальше