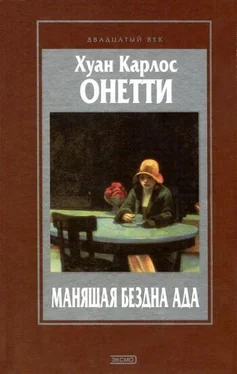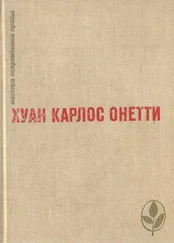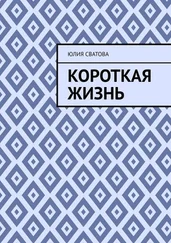— Вот он, — сказала Кека. — Говорит, он от Рикардо, и я должна с ним идти. Сам знаешь, силы нет, все ко мне вяжутся. — Она не хотела смотреть на меня, подняла руку и уронила ее вдоль бедра. — Грозятся… Спасибо, хоть ты пришел.
— Чего молчите?
Голос у него был немолодой и хриплый. Как только он заговорил, белое лицо застыло; плоскости его и тени наводили на мысли о беде и бессоннице.
— Потолкуем про Рикардо, а? — говорил он вяло, как будто думал о другом. Кека медленно отступала к звукам скрипки, которыми истекал приемник. Она оперлась о стену и застыла, касаясь головой картины.
— Не понимаю, — сказал я. — Не может она говорить…
Кека не хотела или не могла ни глядеть на меня, ни слушать. Она была далеко, не здесь, за колоколом звонкого дождя. Я увидел быстрое движение, ощутил боль в ребрах, стукнувшись о спинку кресла, и сразу удар в подбородок. Потом я понял, что сижу на полу, растопырив руки и ноги.
— Эрнесто, — без всякого выражения прошелестела она.
Шляпа у него была все так же сдвинута на затылок. Я слышал, как он сопит, видел разверстый рот, словно он обежал квартал или радуется звуку своего дыхания. Он отступил назад, снова опустив руки, и скрыл от меня ее тело. Где-то стукнула дверь. Я понял и сразу забыл смысл того, что сейчас творилось. Вскочил, вытянул руку, другой рукой ударил Эрнесто в грудь. Снова ощутил боль в челюсти, справа, снова обо что-то стукнулся. Дикая боль расходилась кругами от моего желудка, когда, глядя в потолок, я понял, что мир состоит из моих открытых губ, и из того, что непременно надо вздохнуть, и из того еще, что между моей спиной и скользкими, прохладными плитками передней скомкалась моя рубаха.
Кека медленно подошла к мужчине — он подозвал ее жестом. От его тела отделилась, кружась, моя шляпа и ударила меня в грудь. Стукнула дверь, шумел дождь, больше ничего не было. Я сел на ступеньку, терпеливо дожидаясь, когда смогу дышать. Я сжался, я глядел на свою дверь, не думая о том, что из нее может выглянуть Гертруда. Я поправил вмятины на шляпе и обтер мокрую, грязную руку, покрытую опилками из плевательницы, которая стояла в передней.
Примерно за полсекунды я вспомнил то, что случилось, и тело Кеки, и ее прошлое, и решение, которое побудило меня прийти к ней и налгать. Мне показалось, что я разгадал все загадки моей жизни, свел воедино мельчайшие ощущения каждого дня и получил ответ на каждое из своих самых важных сомнений, радостный, полезный, убеждающий меня, как и всякого, кого мучит слепота, злоба и отчаяние, без которых я еще не жил на земле. Потом я отрешенно улыбался, держа шляпу, словно нищий на паперти, и думал, что главное — в порядке, если я и впредь буду зваться Арсе.
XV
Маленькая смерть и маленькое воскресение
Под вечер Гертруда перешла с балкона в комнату. Я лежал, глядел в потолок и думал о револьвере, который недавно купил и держал на службе, в столе. Смеркалось теперь долго; я часто приходил домой засветло, и Гертруда, словами и молчанием, сообщала мне с балкона, что угасает день. Сам я выйти не смел, оберегая Арсе. За крупным, скорбным силуэтом и профилем, обернутым к реке, мне виделись серые дома, синяя мгла, последняя полоска света, и я ощущал порою радость, кротость, подчеркнутый интерес к смерти.
Сейчас мы разговаривали, а в промежутках беседы я думал о новом револьвере. Я видел, как он лежит в столе, среди бумаг и блокнотов, рядом с железками и стекляшками, винтами и пружинами, которые я поднимал с земли, когда раз в неделю шел в порт к потенциальному клиенту. Уже не слушая Гертруду, я пытался вспомнить номер револьвера и думать о нем как об имени. Гертруда улыбалась. Расставив босые ноги, она играла пояском халата.
— А потом что? — насмешливо спросила она.
— Да ничего! — ответил я. — Не знаю и знать не хочу никаких «потом». Разве что ты…
— Нет, я тоже. Мне и это не нужно.
Она повернула ко мне затемненное веселое лицо и пожала плечами, стоя спиною к сумеркам. Она играла, она радовалась, тело ее двигалось мягко и дерзко, как в юности. Поглядев на халат спереди, никто не сказал бы, какая грудь — искусственная.
— По-моему, мы теоретизируем! — воскликнул я, отводя взгляд от нее и от неба над балконом. — Тебе я хотя бы обязан верностью. Кому-нибудь другому…
— Нет, не так, — прервала она. — «Тебе я обязан хотя бы верностью». Разве не правильней?
— Не правильней, а глупей. — Я растянулся на спине, прикрыл глаза, сцепил руки где-то около паха и увидел необъяснимый блеск револьвера. Если бы я ощутил запах цветов, я бы умер. Я молчу, она терпит, но значит это не то, что я одинок, а то, что я не умею слушать. Таким я останусь. Такими были отец мой и дед, так я вынуждаю их меня простить.
Читать дальше