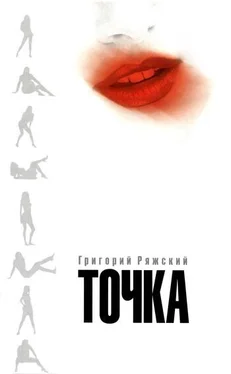Дальше — ясное дело: в обезьянник упекут до выяснения, ночью дежурные перетрахают согласно дежурству, под утро пиздюлей наваляют и выкинут, если не решат дело заводить по статье.
— А ты, Кир, к Джексону сходи, у него узнай, — подбросила верную мысль Мойдодыр. — Кто-кто, а Аркаша-то всё, как надо, знает и сам, если чего, сведет тебя с главным. Правда, злой он может быть, что футбол смотреть не может из-за работы, а работы нет из-за футбола.
— А что? — подумала я и прямо с места пошла за угол к тачке начальника точки, будущего коллеги и конкурента.
— Чего тебе? — хмуро спросил Джексон, приоткрыв черное окно.
Ну, тогда я и сказала — чего. У него от изумления глаза полезли по разным бокам сторон, и он на самом деле стал походить на великого Майкла.
— Ты совсем охуела, падла? — спросил он, справившись с шоком от меня. — Ты хоть знаешь, куда нос свой жидярский суёшь, в какие дела? — он перевел дух и добавил уже спокойней: — Иди работай обратно, а заикнёшься снова — ищи другую точку, сюда дорогу забудь, чучело.
Всё, всё, всё разом покатилось обратно, все разом отхлынули картинки, нарисованные про угол Смоленского бульвара с переулочком напротив двух трамваев — двух Рулей, про крушение их, про точку рельсов, про весь целиковый вещий сон, про кожу под жопой, про Давидофф в уголке рта, про справедливость распределения благ и благодетельный труд с лучшим ещё процентом, чем был. Я растерялась совершенно, потому что и ждать не могла такого ответа от Джексона даже прикидочно. Но ответила, пытаясь сохранить лицо:
— Я не еврейка, мы с мамой Масютины.
Зачем я так сказала в тот момент — не могу объяснить. Джексон сплюнул через стекло и ответил снова без нерв:
— Была б Масютина, на аборт не попала бы в болото.
И вот после этих слов я поняла, что Ленинке конец, и тогда собралась с духом и выпалила прямо внутрь окошка ненавистной тачки сутера:
— Козёл ты, Аркадий, а не Джексон никакой, понял? — и никуда не пошла, а нагло посмотрела ему в зенки, почему-то довольно равнодушно гадая, будут бить охранники или нет.
И — странное дело — Джексон с интересом на меня посмотрел, по-новому совсем, как на человека, а не на блядь за полтинник, ничего не ответил, кроме «ну-ну…», и закрыл стекло обратно. А я вернулась к Нинке, сказала, что еду домой, вышла на панель тротуара Ленинского проспекта, схватила первую тачку и уехала на Павлик.
И знаете, мне отказ в такой форме неожиданно придал сил, несмотря на первоначальное недержание эмоций. Я подумала, что такое мелкое блатное говно, как Джексон, наверняка, в трудную минуту спасует первым по любому делу, по первому подвернувшемуся об него камню преткновения с жизненной опасностью или судьбой. Я же заметила, когда не повиновалась, как у него дрогнули оба века под глазами, где мешки, и зрачки съехались от сторон обратно, к середине шаров и озадачились. И, скорее всего, он подумал, что есть кто-то за мной, если я так открыто с ним вступаю в полемику и называю козлом. А, может, так догадку построил, что кто-то ему через меня, вроде, проверку учиняет на то, как он поведет себя при этом обороте событий, на какое решение сам замахнется и что ответит на гнилой заход.
В общем, поняла я этим же вечером, что нет в нашем деле сильных, а есть только понты, кидняк и бабки. И больше ничего: ни принципов, ни правил, ни поддержки. Помните у Кибальчиша опять? Щи в котле, вода в ключах, а голова на плечах — такой вот Гайдар выходит по сегодняшней жизни, хоть и дедушка. И стало мне легко от этой новости, которую столько лет носила и не знала, а она всегда была, никогда не менялась, сколько работаю, а теперь вот прорвалась. Я знаю — точка будет, я знаю — саду цвесть… — само обвалилось детское стихотворение неизвестного автора моей сегодняшней мизансцены.
«Не верю!» — говорил сам Станиславский, а драматург Берман нам про это подтверждал на репетиции в ДК «Виноградарь», и мы верили, что он не верит, и не верили сами, когда играли в его талантливой пьесе «Бокаччо» как говно последнее, а не артисты, — то есть, не как он настаивал.
Так вот и я теперь не верю, что козлам этим верить должна: уродам, кидалам и понтярщикам. Я — Кира Масютина — Берман, мать Сонечки от старшего Бермана и Артёмки от многомерного математика Эдуарда, торжественно клянусь перед лицом всех девчонок, с которыми работала на Химках, на Красных Воротах, на Ленинке и по заказам, что образую нашу персональную точку, вдохну в неё жизнь на льготных условиях и буду нормальной хозяйкой, не хуже других, а намного лучше и справедливей! Кроме того, обязуюсь свято блюсти военную тайну, высказанную авторитетным человечеством:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу