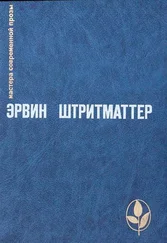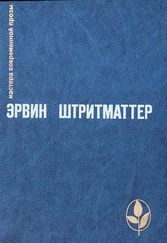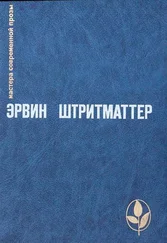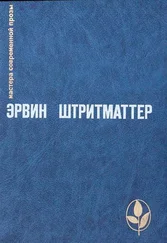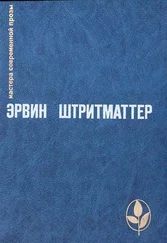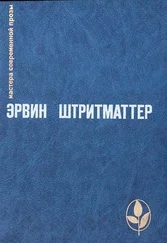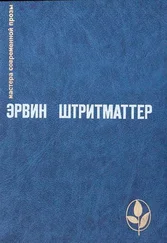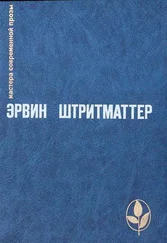Много существовало на свете вещей и, как я слышал, в некой стране существует до сих пор, с помощью которых человек доказывает своим согражданам, что он достоин кредита, способен на платежи и в состоянии поддерживать свой образ жизни, — для этого служат платье, автомобили, украшения, редкостные камни и драгоценные металлы, и если представители некой клики в один прекрасный день договорятся, что с нынешнего дня наиредчайшее и наидрагоценнейшее суть конские яблоки, то и они, и их дамы ничтоже сумняшеся оправят в золото и платину эти роняемые четвероногими фрукты и станут носить их в виде галстучных булавок, запонок и колье.
Мне было безразлично, чем заливать пламя сжигающей меня усталости, грушевый сок казался и по сей день кажется мне вкуснее вина.
Танцы в курзале прерывались сольными выступлениями, «артисты», их исполнявшие, полагали свое «соло» гвоздем программы и потому обращались с музыкантами курортного оркестра как со слугами. Исполнителями сольных номеров были ревматики, проходившие курс лечения в нашем городке и «от сердца полноты» великодушно предоставившие себя для приукрашения бала, а управление курорта в свой черед великодушно предоставляло им тоже «от сердца полноты» бесплатное угощение на субботний вечер, в результате чего опереточник с приплюснутым носом спел обязательную арию из «Цыганского барона», и ему даже поверили. Другой «артист», лысина которого отражала свет люстры, исполнил партию из «Белой лошади», и дамы, обладавшие всеми разновидностями болезней, пожирали глазами певца вместе с его белым фраком.
Выступления утомили меня, я начал клевать носом. Мастер заметил и заказал кофе, он терзал меня своим курбалом, но тогда я не терзался, потому что меня, как шестимесячного щенка, интересовало все вокруг. Двойной мокко, заказанный мастером, на короткое время превратил меня в марокканца, и, чтобы южный импульс, коий я получил, не толкнул меня снова на приглашение воспитанницы, мастер представил мне нескольких дам. Этих дам мне уже приходилось обслуживать в нашем кафе, и я взыскивал с них мои кельнерские проценты, но сейчас я был не кельнер, а человек с фамилией, мужчина, посетивший курбал вместе со своим хозяином и воспитанницей последнего, участник курортной жизни города.
Вероятно, в то время я ничего не имел бы против того, чтобы жители городка, больные женщины и девушки с прибрежных лугов Эльбы обращали на меня побольше внимания, но изготовлением кремовых лягушек, роз и лебедей этого достигнуть невозможно. Сегодня мне часто хочется вернуться к безликости моего кельнерского существования, что вполне естественно и имеет некоторое отношение к диалектике — это жизнь.
Из городских дам, представленных мне мастером, одну я еще ни разу не видел в нашем кафе. На ней было длинное бальное платье, сине-фиолетовое, как цветок вероники (шифон или крепдешин). На ее лице господствовал тонкий нос, производивший благородное впечатление, и крылья ее носа трепетали, как крылья бабочки на солнечной стене дома. Когда она смеялась, в середине верхнего ряда зубов виднелся золотой: она демонстрировала его, как золотое кольцо, скорее как украшение, нежели как необходимость. О ту пору я испытывал большую симпатию к веснушкам и золотым зубам, любовь к веснушкам сохранилась, к золотым зубам — улетучилась. Оказалось, что если составить списки всего, что мне было некогда мило, и того, что стало мне милым в течение жизни, они заполнили бы большую папку и научно доказали, что человек незаметно, часто не отдавая себе самому в этом отчета, становится другим.
За курзалом лежал парк. На дубах, буках и липах, не обращая внимания на курбал, спали птицы. Зал и парк соотносились друг с другом, как два сообщающихся сосуда, но сосуд, образуемый парком, был погружен в темноту и насыщен химикалиями, имя которым — весенняя ночь; танцующие пары, вернувшиеся из темноты паркового сосуда на свет сосуда-зала, явно претерпевали психофизические изменения.
В те времена парк именовался курортным парком, как его называют теперь — я разузнаю весной. В более давние времена он именовался замковым парком, а в дни своей парковой юности был продолжением тюремного двора, так как замок служил тюрьмой, а в тюрьме сидела королева. Королеву звали Эбергардина, и муж королевы, что было тогда делом обычным, приговорил ее к тюремному заключению. А мужем ей был Август Сильный, курфюрст Саксонский; он принял католичество, чтоб быть польским владетелем по всем правилам и согласно паспорту тоже. Эбергардина не изменила протестантской церкви, она осталась как бы социал-демократкой веры.
Читать дальше