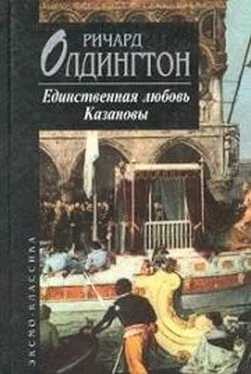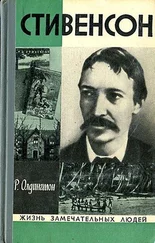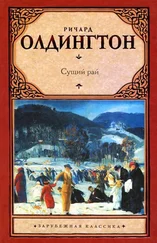— Вот теперь можешь выходить, — сказала Анриетта и поднялась было ему навстречу, но тут же в нерешительности остановилась, свесив по бокам руки, опустив голову и ресницы, чтобы не видно было глаз.
6
Такой момент бывает в жизни мужчины только однажды: у Казановы была возможность поступить просто — и по его меркам даже благородно — и тем самым навеки закрепить свою власть над Анриеттой. Он должен был всего лишь повториться — воспроизвести свой пылкий поцелуй при входе в комнату, поцелуй, который сказал бы Анриетте: «Не обращай внимания на все это или на кого-либо из них — ты моя, а я твой», — и вопрос был бы решен. Ибо Анриетта была ведь Женщиной и в эту минуту прежде всего нуждалась в этом слабом утешении Женщины — Мужчине. Разве она не сыграла свою роль с готовностью и умением, достойными аплодисментов единственного на свете зрителя, чье мнение было ей важно? Спрятав своего возлюбленного, она спасла его от верной смерти, которой ему бы не избежать, будь он обнаружен; она доказала возлюбленному, что мужчина, с которым она беседовала наедине и который мог воспользоваться ее беспомощностью, не был и никогда не мог быть ее любовником, как утверждал в приступе ревности Казанова. Она сделала больше того: вынудила Шаумбурга частично рассказать и полностью подтвердить ее версию — рассказ этот показывал, пожалуй, что она была обманута, Казанову же она обманывала лишь там, где это было абсолютно необходимо для безопасности обоих, — да, она, безусловно, была врагом его страны — Венеции, но была лояльна по отношению к нему.
К несчастью, Казанова на время перестал прислушиваться к тому, что подсказывало ему сердце, а отупевший в тюрьме разум тщетно пытался вновь обрести прежнюю гибкость и, осмыслив, решить возникшую проблему. Ему не нужна была просто женщина — ему нужна была женщина, над которой он одержал бы победу в состязании умов. Вместо того чтобы подойти к Анриетте и заключить ее в объятия, он знаком указал ей на кресло, в котором раньше сидел фон Шаумбург, а сам сел на ее место.
Он понял — или решил, что понял, — теперь все, и воздадим ему должное: почувствовал в известной мере жалость и нежность к одинокой молодой женщине, которую побудили высокие и одновременно общечеловеческие стремления — ибо такого рода натуру легко побудить подобными стремлениями — взять на себя опасную и постыдную, до конца не понятую ею миссию. Раз взявшись, она уже не могла отступить безопасно и с честью для себя, а высоконравственные правители использовали ее и обманывали, идя на такие низости, до каких редко доходит самый гнусный человек. И она не лгала Казанове — разве что можно назвать ложью, когда человек утаивает существенную часть правды. Возможно, она и хотела ему все рассказать — но в какой момент их краткой и неспокойной совместной жизни могла она доверить ему столь важную тайну? Безусловно, не до встречи во Флоренции; во Флоренции же Казанова очень скоро дал ей повод разувериться в нем и отойти от него, а после Флоренции он едва вышел из своего рода испытательного срока, как был арестован…
Анриетта смотрела на Казанову с любовью, стремившейся победить разочарование, а он сидел и размышлял, упершись невидящим взглядом в стол, — слово «арест» поставило перед ним новую проблему или группу проблем. Обязан ли он все-таки своим арестом донне Джульетте? А не могли его арестовать, потому что… да и какая может быть иная причина, кроме той, что он был с Анриеттой, а инквизиторы знали, за что она взялась? Не спасло ли Анриетту от действительно жутких ужасов тюрьмы и комнаты пыток то, что он невольно сам шагнул в расставленную полицией ловушку и она преждевременно захлопнулась? И не по горькой ли иронии судьбы, к которой так обожал прибегать инквизиторский ум, его лояльность к родине подверглась такой проверке, что именно его послали обольщать собственную любовницу и попутно сделать открытие, что она — тайный агент, участвующий в заговоре, который должен нанести роковой удар высокочтимой Венецианской республике?
— Ну-с, — громко произнес Казанова, заерзав в кресле и подняв от стола взгляд, но не глядя Анриетте в глаза, — что же мы теперь будем делать?
— Да, — унылым бесцветным голосом с горечью отозвалась она, — и вправду, что же мы теперь будем делать?
Казанова перестал отчаянно сражаться с самим собой и впервые с тех пор, как вышел из своего тайника, по-настоящему посмотрел на Анриетту — и увидел, как она хороша. У него так и вертелось на кончике языка: «Пойдем в постель!», что — при всей бесцеремонности и грубоватости подобного предложения — было бы, несомненно, лучше невольно вырвавшегося у него:
Читать дальше