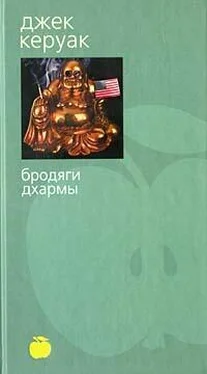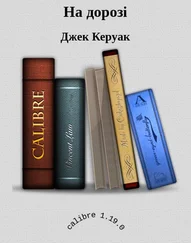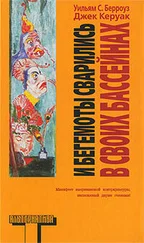— Ничего не выворачивает, мне по кайфу. Я мог бы прямо сейчас воспарить в этом тумане и облететь весь Сан-Франциско, как чайка. Я тебе разве не рассказывал про здешний Скид-Роу — я тут раньше жил…
— Я сам жил на Скид-Роу в Сиэттле, я все про него знаю.
Неонки баров и магазинчиков пылали в сером сумраке дождливого дня. Мне было клево. После того, как нас постригли, мы зашли в «Гудвилл», порылись по ящикам и нашли себе носков, маек, всяких ремешков и прочей дребедени, за которую заплатили несколько пенни. Я продолжал исподтишка посасывать винцо из бутылки, которую заткнул за пояс штанов. Джафи передергивало от отвращения. Затем мы влезли в наш драндулет и поехали в Беркли по мосту, блестевшему от дождя, к домикам Окленда, потом сквозь центр города, где Джафи захотел найти джинсы, которые бы на меня налезли. Я все время слегка искушал его, и к концу он смягчился и хлебнул чуть-чуть — и прочитал мне стихотворение, которое написал, пока меня стригли на Скид-Роу: «Цырюльня современного колледжа, смитовы глаза закрыты — переживает стрижку, опасаясь ее уродства за 50 центов, студент-парикмахер с оливковой кожей, на его куртке — "Гарсия", двое светловолосых мальчишек, у одного — испуганное лицо и уши топырятся, наблюдают из кресел, скажи ему: "Ты маленький уродец, и уши у тебя лопухи," — и он расплачется и обидится, а это вовсе неправда, другой — тонколицый, развитой, сосредоточенный, заплатанные джинсы и потертые башмаки — наблюдает за мною, нежное страдающее дитя, которое, созрев, заскорузлеет и взалкает, Рэй и я с пузырем рубинового портвейна у нас внутри дождливым майским днем, в этом городишке нет даже поношенных "ливайсов" нашего размера, старое училище парикмахеров — засранцы из фазанки, трущобные причесоны, карьеры пожилых парикмахеров начинаются уже сейчас, расцветают пышным цветом.»
— Вот видишь, — сказал я, — ты б никогда не написал такого стихотворения, если б вино не пришлось тебе по кайфу?
— Ах, да я бы все равно его сочинил. Ты же все время слишком надираешься, я вообще не врубаюсь, как ты собираешься добиться просветления и умудриться остаться в горах: ты же постоянно будешь бегать вниз и пропивать все те деньги, что тебе выдадут на фасоль, а кончишь вообще посреди улицы под дождем, вусмерть пьяный, и тебя загребут, и тебе придется перерождаться в трезвенника-бармена, чтоб искупить свою карму. — Его на самом деле это печалило, он тревожился обо мне, я же продолжал себе кирять.
Когда мы добрались до домика Алвы, как раз подошло время ехать в Буддистский Центр на лекцию, и я сказал:
— Посижу здесь, попью винца и подожду тебя.
— Ладно, — произнес Джафи, смурно на меня посмотрев. — Живи как знаешь.
Его не было два часа. Мне стало грустно, я слишком много выпил, и меня теперь мутило. Но я был полон решимости не отключаться, все выстрадать и доказать Джафи кое-что. Уже смеркалось, когда он вдруг примчался обратно, пьянющий в стельку, и завопил:
— И знаешь, что было, Смит? Прихожу это я к буддистам на лекцию, а они все глушат неразбавленное сакэ чайными чашками, все уже хорошенькие — ах, эти чокнутые японские святые! Ты был прав! Никакой разницы! Мы нажрались и говорили о праджне! Было ништяк! — И после этого мы с Джафи никогда уже не ссорились.
Настал вечер большой попойки. Снизу до меня очень отчетливо доносился гвалт приготовлений — меня он просто угнетал. Господи ты Боже мой, общительность — это всего лишь одна большая улыбка, а в улыбке нет ничего, кроме зубов, ах, если б я мог остаться здесь, наверху, отдыхать и быть добрым. Но кто-то притащил наверх вина, и я сорвался.
В ту ночь вино лилось по нашей горке буквально рекой. Шон натащил во двор громадных бревен для костра. Ночь была ясной и звездной, теплой и приятной: май месяц. Собрались все. Вся вечеринка вскоре опять явно поделилась на три части. Я, в основном, торчал в гостиной, где мы крутили на вертушке пластинки Кэла Тжейдера, куча девчонок танцевала, а Бад, я, Шон и иногда Алва с его новым корешем Джорджем играли на бонгах — то есть колотили по перевернутым баночкам.
На дворе снаружи было поспокойнее: свет костра и множество людей сидит на длинных бревнах, которые Шон уложил вокруг кострища, а на широкой доске выставлен закусон, что впору бы подавать королю и его голодной свите. Здесь, у костра, вдалеке от неистовства об-бонгенной гостиной, блистал Какоэтес — он разговаривал о поэзии с местными остроумцами примерно вот в таких тонах:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу