Эмиль отсутствовал на своих похоронах. Долгие годы Матильда приходила к пустой могиле. Ее муж погиб, его видели мертвым, но бои сделались столь ожесточенными, что перерывы для выноса тел уже не соблюдались. Подготовку к масштабному наступлению тяжелая артиллерия вела иногда неделями, выпущенных по обстреливаемому участку снарядов хватило бы, чтобы целую страну стереть с лица земли. Солдаты лежали в окопах, вжавшись в землю, оглушенные грохотом, не рискуя поднять голову или протянуть руку за фляжкой, голодая по нескольку суток, пока дежурные (безоружные герои, пробирающиеся по траншеям с огромным котелком, который ни при каких условиях нельзя опрокинуть, и котомками с хлебом) не поднесут еду, не смыкая глаз, затаившись в узкой щелочке земли с ощущением, что страшный сон не кончится никогда. Трупы постепенно затягивались вязкой глиной, сползали в воронки, засыпались землей. Солдаты, идущие в атаку, натыкались то на руку, то на ногу, падая, целовались с мертвецом, чертыхаясь сквозь зубы, свои и того, другого. Когда покойник ставит подножку — это плохая примета. И все же кто мог срывал с его шеи номерок, спасая от безымянного забвения, словно бы трагедия неизвестного солдата в том и состояла, что он потерял имя, а не жизнь. Так случилось и с Эмилем: Матильде сообщили только, что он погиб в секторе, именуемом Верхний Маас. А вдруг Эмиль просто потерял жетон и кто-то его подобрал? Или поменялся номерком с товарищем, чтоб задурить голову тупому капралу? Точно ли Эмиля нет в живых?
Известны случаи, когда люди возвращались из плена через много лет после войны. Рассказывали, что контуженых и беспамятных заносило на Восточный фронт, где они заново устраивали свою жизнь. Батраки находили у голубоглазых полек несколько акров земли, которых не имели в своем краю. Родина была к ним менее благосклонна, чем женщины, искавшие мужика в хозяйство. Говорят, заблудившихся, голодных солдат такие невесты буквально подстерегали. Сытный бутерброд, немного ласки — иной раз этого хватало, чтобы удержать невольных трагических актеров. Да, но зачем Эмилю искать на стороне то, что было у него дома?
Безумная надежда на его возвращение с годами таяла и таяла, Матильда нашла кратковременное утешение в религии, совсем не так, как того хотелось бы ее невестке, а по-светски, на свой лад, короче, по слухам, в общении с одним весьма соблазнительным аббатом. Вообразить при этом тайные объятия было бы явным преувеличением. Самое смелое, что можно представить, — это приятная для обоих задушевная беседа двух одиноких людей — самодостаточная болтовня, подобная спокойной любви. В конце концов, Иисус Назарянин тоже был красивым парнем, и вызов синедриону и Риму бросили женщины, они первые пришли ко гробу, и в награду за верность им первым открылось Воскресение. Как восхищались все посланиями апостола Павла, а стоило ему самому появиться в Эфесе или Коринфе, так никто и слушать не желал заикающегося коротышку. Небо наделило аббата ангельским лицом, вот он и пользовался своей красотой, чтобы возвращать в стадо заблудших овечек. К ним Мария, работница первого часа, относилась с якобинской безжалостностью, от которой и чахли петунии в саду Матильды.
Письмо из Коммерси шло к нам десять лет. С ним оборвалась для Матильды ее молодость, рухнули последние надежды, и она вступила в ту пору жизни, когда человек если еще и позволяет себе мечтать, то уже никак не связывает эти мечты с реальностью. Соболезнования в первой строке отчетливо говорили, что желаемое никогда не сбывается и чуда уже не случится, что нет никакой большеглазой польки, прибравшей к рукам симпатичного француза, нет и потери памяти, что Эмиль действительно умер. Далее боевой товарищ пишет, что наспех похоронил его под эвкалиптом и сможет показать место, если семья решит забрать тело, как того, дескать, хотел умирающий, а не закопай он его тогда, сбросили бы в общую могилу или оставили гнить на поле боя. Но Матильда этих строчек уже не видит, глаза ее затуманились, и стоило ей моргнуть, как на бумагу ручьем хлынули слезы. Письмо не сообщило ей ничего нового, о гибели мужа она узнала двенадцать лет назад, просто оно подвело окончательную черту под ожиданием, и дверь захлопнулась. Она вспоминает, много ли было счастья в ее ушедшей юности, итог получается убогий: овчинка не стоила выделки.
Зима 1929-го выдалась одной из самых суровых, какие только известны. Второго февраля один пьянчужка замерз стоя, прислонившись к дереву («Вестник Устья»). Пятого Бриер, второе по величине болото во Франции после Камаргских, бывшее некогда заливом с островками там и сям, но постепенно заполнившееся наносной землей, в одну ночь остекленело. Нутрии, родственницы аппалачских бобров, запущенные сюда в начале века в надежде на то, что пушной промысел послужит бриерцам подспорьем, застыли наполовину вмерзшие в лед в ту минуту, когда пытались выбраться из нор («Западный полуостров»). Восьмого в порту Сен-Назера, превращенного на время в Анкоридж, каботажное судно затонуло под тяжестью снега на палубе. Доки и пляжи усеялись трупами чаек, белыми на белом, спрятавшими головы под крыло в последней отчаянной попытке согреться. Луара тащила невиданной тяжести льдины, одна из которых чуть не потопила драгу в Сен-Флорене: по счастью, наш пресноводный «Титаник» сел на мель. Сугробы парализовали жизнь в крае. Поезда остановились, паровозы, переоборудованные в снегоуборочные машины, не справлялись с расчисткой путей. Дороже всех за такой каприз природы заплатили, как водится, всякие горемыки: нищие, замерзавшие в придорожных канавах и жалких бараках, одинокие старики, хилые дети, бездомные собаки и синицы.
Читать дальше
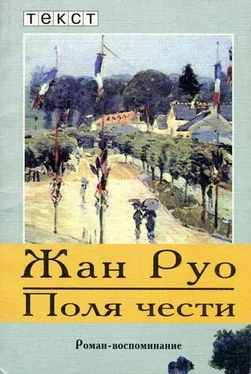

![Жан Ануй - Томас Бекет [=Бекет, или Честь Божья]](/books/78196/zhan-anuj-tomas-beket-beket-ili-chest-bozhya-thumb.webp)
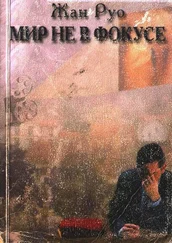
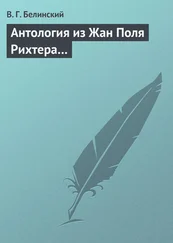





![Кирилл Корзун - Клинок чести [= Зов чести] [litres]](/books/393419/kirill-korzun-klinok-chesti-zov-chesti-litres-thumb.webp)

