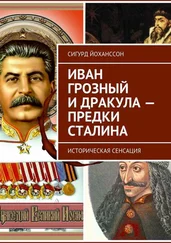Я думаю, подрядчик вздохнул с облегчением, когда заключил сделку. Он настоял на том, чтоб мы «это обмыли», притом у него в гостях. Нас угощала его жена, кругленькая и пышная, прекрасная стряпуха — что чуялось за версту, — и мне довелось отведать как подрядческих котлет, так и шампанского. К концу вечера он потребовал, чтоб я называл его просто Мартин. Я усомнился в надежности своих связей и заподозрил, что все же переплатил тысячу-другую. Кажется, за этим-то ужином он и рассказал о роскошной даме полусвета. Вероятно, он не был вполне уверен, что факт её существования повышает ценность дома.
Я не жалел о сделке. Одна из причин, почему я купил дом, — был флигель. Он не использовался под жилье много лет, верно, еще с первой мировой войны. Слуг принято стало селить тут же в доме, и одну из комнат — видимо, прежний будуар госпожи — переделали в людскую, отведенную для двух горничных, которых теперь обычно держали хозяева.
Старая людская пришла в запустенье, там полно было паутины, мышиного помета и всякого скарба, который скопляется с течением времени, — того, что не пожелали увезти с собой сменявшиеся владельцы и что не стоило продавать с молотка. Я, впрочем, нашел среди этой свалки весьма изящный сундучок мореного дуба, окованный железом. После того как его почистили и подправили (что в результате обошлось в кругленькую сумму), он сделался одной из моих любимых вещиц.
Я основательно расчистил старый флигель. Я обнаружил, что стены у него крепкие, толстые и не дрожат, когда рядом по улице проезжает трамвай или машина. Я решил, что устрою тут маленькую лабораторию. Так и вышло. Насчет лаборатории у меня была давнишняя мечта. Я вовсе не физик по профессии; но внушил себе — или просто я тешился этой идеей? — что таково мое призвание. Впрочем, это к делу не относится. Я переоборудовал старую людскую: провел туда электричество, наладил водопровод, канализацию и все остальное, наладил даже электрическое отопление для лаборатории и для жилого дома. Я так хорошо устроился в своем флигельке, что домашние мои даже ворчали, что я провожу там все вечера; они спрашивали, уж не решил ли я на старости лет отличиться на научном поприще.
Потом наступила оккупация.
Поначалу она мало что изменила для нас. Пришли несколько немцев, осмотрели дом, нашли, что он не подходит для их целей, и оставили нас в покое.
Жизнь наша шла приблизительно так же, как и прежде.
На самом-то деле, конечно, все изменилось. Мы сами изменились, совершенно изменились. Мы дышать стали иначе, пульс у нас теперь иначе бился, кожа стала другая. Наверное, каждая клеточка тела с заключенной в ней частицей души ощутила, что страна наша в руках врага.
Потом настали внешние перемены, и были они больше и значительней, чем мне бы хотелось. За мной стали следить, я лишился места, просидел под арестом несколько недель, а затем произошло несчастье, в результате которого я потерял своих близких. Но это мои частные дела, не имеющие никакого отношения к тому, о чем я взялся рассказывать.
Зато, быть может, уместно сообщить тут прозвище, какое дали мне после этого в нашей группе. Меня стали называть Безупречным. Конечно, это они в шутку и даже чтоб меня поддразнить. Но должен сознаться: прозвище мне льстило.
Вероятно, надо еще упомянуть, что оба доходных дома — слева и позади моего участка — заняли немцы. Один они как будто отвели под школу, а назначения второго я точно не знаю. Кажется, у них там были какие-то канцелярии. Кроме того, там жили несколько офицеров и у дверей расхаживали часовые.
Странное это чувство, когда немцы у тебя совсем под боком. Если вечером я выходил в сад, до меня доносились сдавленные рыки и выкрики, мерный стук и топ и еще какие-то звуки, значения которых я не мог понять, — что-то похожее на удары, но и не удары все же. И еще я слышал обрывистый вопль или стон, издаваемый каким-то живым созданием. Был он громкий, сильнее человеческого голоса, но в нем мерещилось слово — только я не мог расслышать какое. Похоже было на «Оль»! Снова и снова я слышал удар, а потом это «Оль»!
Звуки напоминали о пытке — мне представлялось, что они изловили в горах тролля, связали, мучили, терзали, орали на него и били — их было много, а он один, и все они его били: и я слышал удары. А потом тролль стонал коротко: «Оль! Оль!» Уж не жену ли призывал тролль в своих муках?
Тяжело было окружение этих звуков, которых я не мог понять. Словно тебя опутали чем-то потусторонним, нелюдским, звериным — нет, даже еще страшнее и проще. Безумие, беспомощность, глухие жалобы и ругань. И все это равномерно, ритмично.
Читать дальше
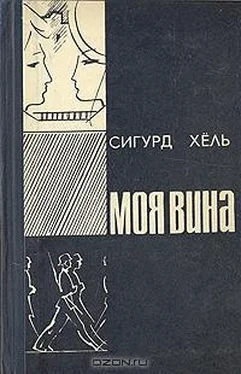

![Сигурд Йоханссон - Иосиф Рюрикович-Дракула [Рассекреченная родословная генералиссимуса]](/books/25275/sigurd-johansson-iosif-ryurikovich-thumb.webp)