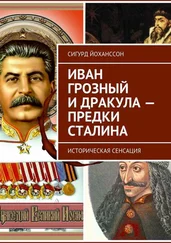Я вспомнил тот митинг на площади и не мог не улыбнуться.
Она заметила.
— Относительно широкое, конечно! — сказала она. — Я ведь знаю, что ты видел тот митинг на площади. Но дело в том, что как раз в тот день была объявлена какая-то экстренная облава в лесу — кстати, они напрасно старались…
Впрочем, для Карстена не суть важно было — выступал ли он перед толпой или же перед ним сидел один-единственный человек. Он мог говорить с ним хоть сутки напролет. И он обладал удивительной властью над людьми. Почти гипнотической. Она сама не раз наблюдала.
Я подумал: в нем, значит, заложен этот запал. Пусть ложно направленный, но в нем он все-таки есть. А вот я парализован той трусостью, которая называет себя добропорядочностью, — и в какой-то мере, возможно, добропорядочностью, которую часто называют трусостью.
— Он не мог мне простить, что я не в е р ю! — сказала она. — Я его потеряла из-за этого. О! Почему вы, мужчины, такие одержимые в своей вере! Карстен так верил, что… что мне иногда страшно становилось. Вера делает людей жестокими!
Вдруг она взмолилась — словно пощады у меня просила:
— Но ты ведь не думаешь, что он абсолютно, совершенно был не прав? Не может ведь быть, чтобы он так ошибался?
Я не мог ей ничем помочь. Да она, видимо, и не ждала.
Что-то вдруг подалось в окаменевшем лице, и слезы полились. Она закрыла лицо руками и плакала беззвучно, как плачут женщины, привыкшие плакать. Только плечи ее вздрагивали.
Я сидел рядом и ничем не мог помочь, не мог даже утешить.
Странно было подумать — ведь не так уж невероятно давно был тот вечер, когда я с отвращением и ужасом смотрел на ее сына, парализованный мыслью: и ты мог быть на его месте!
А теперь огромное расстояние нас разделяло — я знал, что, если бы даже захотел, мне не позволили бы принять в этом ни малейшего участия. Да скорее всего я и сам бы не захотел.
Она подняла лицо — опухшее от слез, с выражением фанатичного упрямства.
— Между прочим, плевать мне, кто прав, а кто не прав! Если б я могла вернуть его, я согласилась бы поверить во что угодно! Во что угодно! Ты слышишь? Я пошла бы на убийство, только бы мне вернуть его…
Но я знал:
все напрасно. Ты никогда его не вернешь. Слишком далеко забрел он в каменную пустыню фанатизма.
"Что мне в тебе, жено?"
И слова эти приписываются тому, кого они называют Спасителем! Неужели он правда так сказал?
Скорее Разбойнику подошли бы такие слова.
О ней, сидевшей за метр от меня, но отгороженной от меня стеной, которую мне было не преступить, — о ней знал я, что нет границ тому, на что способна она была бы в святом своем заблуждении. И все было бы напрасно.
— Нет, нет, нет! — воскликнула она вдруг, будто протестуя отчаянно, хоть я не сказал ни слова. — У меня не может быть с тобой ничего общего! Только он! Я не могу предать его еще раз!
Больше, пожалуй, и нечего сказать об этом нашем разговоре. Она повторялась, противоречила самой себе, снова повторялась. В какой-то момент она мучительно напомнила мне куницу, которую я видел как-то в зоопарке. Куница сидела в клетке, но никак не хотела с этим примириться. Стройный, гибкий, непокорный зверек все бегал, бегал без остановки, натыкался на прутья решетки, но бежал все дальше, по кругу, по кругу — должен же где-то быть выход! О чем он думал? О лесе, свободе, возлюбленном, норе с детенышами? Не знаю, но только мучительно было видеть, как металось благородное животное, а за клеткой стояли и глазели на него безучастные люди.
И спасибо, что я пришел, сказала она мне под конец. Легче, когда выговоришься.
Я подумал: надолго ли? На час, может быть. А потом опять все сначала.
Но лучше нам не видеться, сказала она, провожая меня до двери. Если я ей понадоблюсь, она напишет. А вообще она должна сама со всем справиться.
После этого я зашел, как было договорено, к доктору Хаугу.
Он сам мне открыл.
— Надо на время оставить ее в покое. — Вот все, что я мог ему сказать.
Он пригласил меня в комнату.
— До уюта еще, конечно, далеко! — сказал он. — Но я вот одолжил пока стулья, и стол, и вот еще диван…
Мне навстречу поднялась дама.
Как тесен иногда бывает мир! Дама, что встала мне навстречу, оказалась той самой особой, имя которой я забыл и которую называл в этих записях Идой.
Доктор представил нас друг другу:
— Фру Мария Челсберг…
— Супруга майора Челсберга, — пояснил он на всякий случай.
Так. Значит, она вышла замуж за этого лейтенанта.
Ее звали Мария. Ну, конечно, я ведь все время это знал. И ведь я так или иначе знал, что и Кари зовут Мария. В ту же секунду всплыла в памяти маленькая газетная заметка из какого-то далекого-далекого прошлого:
Читать дальше
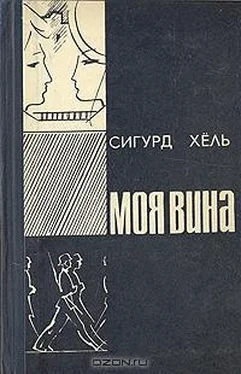

![Сигурд Йоханссон - Иосиф Рюрикович-Дракула [Рассекреченная родословная генералиссимуса]](/books/25275/sigurd-johansson-iosif-ryurikovich-thumb.webp)