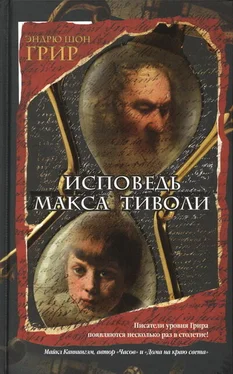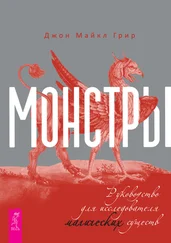Хьюго все понял с первого взгляда. Он пришел в своем костюмчике и шляпе, на его устах играла вежливая улыбка, однако стоило мне с книгами в руках войти в холл, как Хьюго тут же превратился в рассвирепевшего быка и плечом вперед понесся на меня. Я упал навзничь, усеяв бумажками натертый до блеска пол.
— Человек за бортом! — радостно взвыл Хьюго. — Человек за бортом!
А потом как ни в чем не бывало принялся подбирать разлетевшиеся книги и спрашивать, как у меня дела. Изумленный, я не придумал ничего лучше, чем обрушить на его голову томик поэзии и стегнуть по руке книжным ремнем. Конечно, я был мощнее, сильнее, мог запросто поднять его над головой, перебросить через забор к соседям — в стилизованный восточный садик, куда я порой аккуратно швырял его на подушку из густой травы. Ах, как бы он смеялся и визжал, а потом несся бы обратно с кувшинкой за ухом. Однако я всегда считал Хьюго более сильным. Все то время я старался произвести на него впечатление, быть и умным, и сумасбродным; да, многие годы я бегал гораздо быстрее и все-таки не мог полностью сравняться с ним.
Скажете, мне повезло, что я обрел в нем друга, мальчика, пожелавшего завести знакомство с великаном-людоедом, ведь, кроме него, никто не стал бы со мной водиться. Сумасшедший ребенок. И тем не менее интересно, почему Хьюго так быстро принял меня. Скорее всего у него были свои странности вроде искаженного восприятия действительности или свойственной мальчикам эгоцентричности, столь огромной, что она перекрыла даже мою неуклюжесть и бегающие глаза. Наверное, он сам радовался, что нашел меня.
Но кем же он меня считал?
— Ну, ты был Максом, — повторял он годы спустя. — Я не знаю, просто Максом, так же как мама — это мама и никто другой. Какая теперь разница? Я никогда не воспринимал тебя как вещь. Ну там игрушку или собаку. Я понимал, что ты — личность, только не ребенок и не взрослый. Кто-то еще. Уж не знаю кто, да я об этом и не задумывался. Ты и сейчас просто Макс, идиот ты эдакий, дай-ка мне сигару. Да не эту, а хорошую.
Воспоминания о детстве хранились в моей душе, а не в разуме. Я не могу точно рассказать, что случилось в тот или иной день — например, на чьем дне рождения Хьюго обернул лягушку лентами и выпустил страдалицу на чайную подставку, заставив Мэгги с визгом выронить кувшин с молоком, или сколько мне было лет, когда мама отказалась переодеть платье со слишком глубоким, на папин взгляд, вырезом, и отец, осознав, что словами тут ничего не добьешься, перевернул сахарницу прямо в ее декольте, а мама лишь весело рассмеялась. Или когда мы с папой пошли на причал Мэйг и увидели там нашу бывшую горничную Мэри в ярком макияже, с ирисом в руке; она подбежала к нам, радостно воскликнув, что я очень помолодел.
— А ты выглядишь уже не таким старым. Подожди, милый, твое время еще придет.
Отец потащил меня прочь, даже не поздоровавшись. Я помню взгляд Мэри, когда мы уходили; она бросила ирис на землю — замерзший поцелуй на грязном тротуаре.
Я бы никогда не смог подробно описать свое детство, поскольку все случалось прежде, чем я начал понимать, какое было время. Когда мне обещали в субботу пойти собирать ягоды, я через каждые несколько минут спрашивал: «Уже суббота?» У жизни не было «до» и «после», она еще не была натянутой во времени струной, а потому нельзя просто открыть ящик комода и выудить ее оттуда целой и невредимой.
Все, что я помню из детства, это визиты мистера Демпси; Хьюго, разрисовавший мелом свои ботинки; Мэгги и няня, сплетничающие в холле; несколько черепах в террариуме, которые жили и умирали в каких-то дюймах от моего прижатого к стеклу носа; торговец овощами, каждое утро стучавший в дверь черного входа; песенка точильщика: «Наточим старые ножи! Наточим старые ножи!»; дым, столбом поднимавшийся от стоявших в порту пароходов; резкая вонь и полные боли глаза лошадей, окутанных облаком мух; сырой запах купального костюма, сохнувшего в моей комнате; встреченная на улице старушка, которая была одета в соответствии с модой прошлых веков: на ней красовался кринолин и устрашающий парик; мама и ее любимые ароматы; насвистывание папы, поглаживавшего свои усы; запах ночи, который для меня воплощался в запахе газовых ламп. Однако все это было до Элис.
Хочу написать, что сон мой уже не так хорош, как прежде.
Нижняя кровать, как раз под твоей, Сэмми, могла примириться с детскими кошмарами и ночным чтением книжек про ковбоев, но не с этим стариком. И причудливый ночник в углу — не просто пожиратель электричества, для меня он — яркое напоминание об электрическом камне с его фальшивым сиянием, который папа пытался подложить в мамину шкатулку с драгоценностями. Весь дом, такой современный и продуманный, такой сверкающий крашеными стенами и прекрасный днем, ночью терял свое очарование. В скорлупе его голых стен я чувствовал себя бесконечно одиноким. Впрочем, возможно, мои записи о прошлых воспоминаниях лишь бередят старую рану, как расчесывание пореза. Поэтому мне и не спится.
Читать дальше