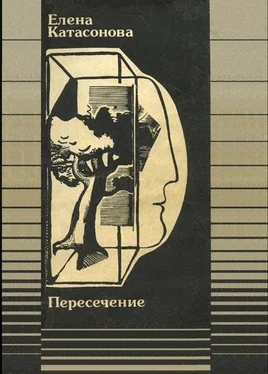И как же кстати вызвал его однажды ученый секретарь и попросил (именно попросил!) поработать с делегацией индийских ученых, прибывающих в Москву по линии президиума Академии наук.
…Павел стоял на взлетном поле, смотрел на вздрагивающее, замирающее, тяжелое тело самолета и трусил: сейчас подадут трап, сейчас они выйдут, заговорят, а он ничего не сумеет перевести. Свою первую фразу он вызубрил наизусть, но вдруг не поймет индийцев? Говорить они будут, конечно, на хинди, но произношение, диалекты… А что, если родной язык главы делегации — урду? С урду у Павла не очень…
Но глава делегации, пожилой индус с влажными скорбными глазами, заговорил по-английски — медленно и внятно, и только потом, вслед за Павлом, перешел на хинди. И Павел его прекрасно понял! И делегаты, похоже, без труда понимали Павла. И сразу схлынуло напряжение, и они стали своими — черноглазые, смуглые, тонкие гости и человек, знающий их язык и страну, о которой они стали скучать, как только ступили на чужую для них землю.
И была просторная, гордая Москва, увиденная их глазами; и были в белых залах приемы с торжественными речами и тостами, с первым в жизни Павла жульеном в серебристых ковшиках с длинными ручками. И были серьезные переговоры, на которых Павел блеснул как переводчик. А потом был Ленинград — тоже впервые.
Темное, почти черное небо. Низкие рваные тучи, стремительно несущиеся над великим Всадником. Яростный конь и могучий Петр. Никакие открытки и марки, никакие самые тщательные репродукции не могли передать эту силу, этот мощный рывок вперед, в будущее: на открытках и марках не было Ленинграда. И плескались о гранитные ступени сердитые серые воды Невы, замирало сердце при взлетах машин на горбатые мостики, и стоял спокойный Исаакий, мускулистые юноши держали крепкой рукой мускулистых коней, и светились на Невском изогнутые старинные фонари.
Делегацию принимали в исполкоме, где Павел точно и четко переводил беседу с самим председателем. Изящная девушка водила их по золотому, роскошному Эрмитажу. Они были в Смольном и на «Авроре», а потом поехали в Разлив.
Индийцы почтительно выслушали пожилого обстоятельного экскурсовода, постояли у шалаша и задумчиво пошли к машине. А на обратном пути, когда машина неслась по узкой дороге, зажатой с обеих сторон болотцами и озерами, на Павла обрушился водопад вопросов.
Какая мешанина была, оказывается, в ученых головах именитых гостей! Какой темперамент пробился сквозь восточную непроницаемость! Они знали многое, но не понимали главного: тактики большевиков в годы реакции и войны. «Поражение своего правительства»… Это даже им, гандистам, непротивленцам, было невозможно уразуметь. Аресты, ссылки, полиция рыщет по всей России, а Ленин пишет великую свою работу «Государство и революция», и партия готовит страну к восстанию. А ведь война, угар патриотизма… Какое нужно иметь мужество — призывать к поражению собственного правительства!..
Всю дорогу Павел сидел, обернувшись к индийцам, и говорил, говорил — об отношении большевиков к войне, об эре революций, о войнах справедливых и несправедливых… Он разъяснял, доказывал, спорил и был счастлив.
Впервые он так надолго расстался с Таней. Как она там — без друзей, без своих экспедиций, вдвоем с нелюбимой свекровью? Он совсем забыл о ней и потому в последний ленинградский день опрометью бросился в длинный, на полквартала, Гостиный двор и купил какую-то рыжую, всю в цепочках, сумку, а тете Лизе — расписной синий платок.
Он явился домой, старательно скрывая чувство вины и тревоги, изо всех сил пытаясь казаться благополучным и уверенным в себе главой семьи. Мрачная Таня подошла, переваливаясь уточкой, подставила щеку для поцелуя, пожала плечами, получив нелепую сумку: «Лучше бы о пеленках подумал». Тетя Лиза бурно радовалась платку, хлопотала у накрытого стола — знали бы они, где и как он недавно ужинал! А убого у них все-таки…
— Понимаешь, — рассказывал он вечером Тане, — это ведь очень важно, какой человек работает с делегацией. От меня, знаешь, тоже зависит их впечатление от Союза, от всех нас…
— …советских людей, — закончила за него Таня. — А без патетики можно?
Павел умолк и больше не сказал ни слова. Неужели она и дальше будет такой? Или в ее положении все так злятся? Скорей бы уж, что ли…
Сын родился в конце ноября, через неделю после утверждения темы на ученом совете. Утверждение — дело формальное: давно обговоренные темы всегда утверждались. Но все равно Павел волновался и радовался. Его слушали, ему задавали вопросы, что-то советовали. Он почувствовал себя своим в институте.
Читать дальше