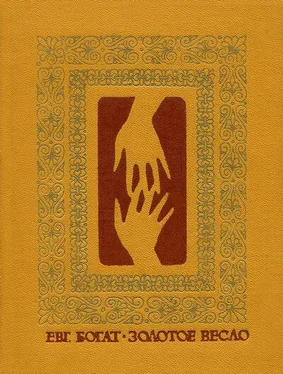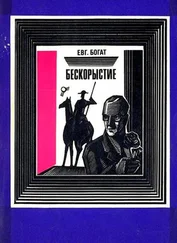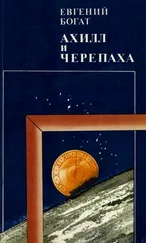Радостное чувство освобождения и покоя овладело им, но ненадолго. Он посмотрел на часы: можно еще успеть…
На окраине города машина остановилась. Шофер вышел из кабины и, обернув к Воронихину хмурое лицо, посоветовал:
— Вам бы лучше сойти. Я к себе задами поеду… — И пояснил: — На порядочных улицах могут оштрафовать за отсутствие крахмальных манишек. — Он выразительно постучал по запыленному борту.
Воронихин оглянулся: ни такси, ни автобуса. На соседней улице погромыхивал трамвай.
Тогда он выхватил из кармана деньги.
— Вот. Я заплачу штраф… Только едем… едем… Я очень спешу… На Волхонку!
Шофер, зло усмехаясь, остро взглянул в лицо Воронихину, потом сел в кабину, и они поехали дальше.
Когда машина выбежала на шумное Садовое кольцо, Воронихину показалось, что он возвращается из далекого путешествия.
Переулочками Арбата, изломанными, как дорога в горы, мимо домиков с осыпавшейся штукатуркой, за кустами расцветающей сирени, трехтонка добралась до Кропоткинской.
Воронихин, отряхнув былинки сена, выпрыгнул из высокого кузова на тротуар. Увидев хмурое лицо шофера, он понял, что не надо не только совать ему денег, но и говорить благодарственных слов.
Молча пожал ему замасленную руку.
На Волхонке было не так оживленно, как утром. Две очереди огибали с обеих сторон низкую чугунную ограду. Одна, с билетами, медленно подвигалась; вторая, без билетов, стояла недвижно, как многофигурное изваяние из исполинского камня.
Воронихин поспешил занять место в первой очереди. Он заметил, что на него посмотрели с удивлением, а молодая, ярко одетая женщина, смущенно отодвинулась…
«В чем дело? — подумал он. — А! Может быть, у меня в волосах осталось сено? — И он уже хотел потрогать рукой волосы, но его остановила ужасная мысль: — Что, если на этот вечерний сеанс билеты не розоватые, а белые или зеленые?» Он посмотрел на руки соседей и успокоился: они держали узкие розоватые листочки.
Все же Воронихин решил пойти на одно ухищрение: он зажал билет в пальцах так, чтобы не было видно часов сеанса. И с обмирающим сердцем подвигался все ближе к контролю…
Когда он вошел в залы музея, у него закружилась голова от блеска рам, сияния красок и даже, казалось, от их запаха. В первые минуты он ничего не понимал, но, постепенно успокоившись, стал различать лица, руки, волны, деревья, листья. Все это ожило, зашумело, обступило его. Потом, еще более успокоившись, он начал видеть, как вспыхивает солнце на женских лицах и отражаются облака в мокрой листве…
Особенно долго стоял Воронихин перед полотнами Рембрандта. Его взволновал портрет старика с посохом. Из мрака выплывали, мерцая, тяжелая рука и мудрое морщинистое лицо. Воронихин почему-то подумал, что этот старик честно поработал на земле.
Портрет висел у окна и отсвечивал. Воронихину все хотелось получше его рассмотреть; он переступал с места на место перед картиной и вдруг увидел в ней не старика с посохом, а себя самого, отраженного, как в зеркале, в темном лике. «Неужели это я?» — подумал он. Левая щека его была маслянисто-серой, в волосах торчали соломинки… Он подался к портрету, и в тот же миг отражение исчезло: навстречу ему снова выплыли, мерцая, тяжелая рука и старое, все понимающее лицо… Воронихин крепко, до боли, потер щеку носовым платком и пошел дальше.
Он воспринимал теперь картины с той радостной сосредоточенностью, которая наступает иногда после большого душевного напряжения.
Оставались залы итальянской живописи. В первых двух сияли краски Джорджоне, [16] У Эдуарда Гольдернесса в цикле стихов, посвященных Дрезденской галерее, написано о «Венере» Джорджоне: «Небрежно руку заложив за шею, лежит она, желанна, как весна. Глаза закрыты — верно духи сна с любовию склоняются над нею. Непревзойденной красотой своею горда и наготой не смущена, почти что улыбается она, похожа на загадочную фею. Где ключ улыбки той высокомерной, кто ей сказал, по праву легковерной, что ей по красоте соперниц нет, что эти чары вечно с ней пребудут, что в эту красоту поэты будут влюбляться даже через сотни лет!»
Тициана и Тинторетто. Через эти залы люди шли, как через чистилище, стряхивая с сердца все лишнее, что не нужно человеку для счастья. И выходили в третий зал. Там, в широкой нише, висела «Сикстинская мадонна» Рафаэля.
Воронихин вошел в этот зал, посмотрел в изумленно-счастливое, опечаленное лицо мадонны и понял, что видит мать, с великой тревогой отдающую ребенка в недостроенный мир. На лесах этого мира работают паркетчики, с черными по локоть руками, и женщины-маляры, и та женщина в ожерельице, и старый мастер — и Воронихин о них подумал…
Читать дальше