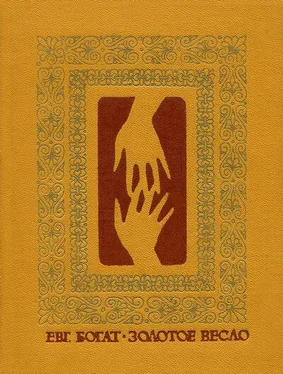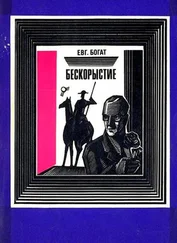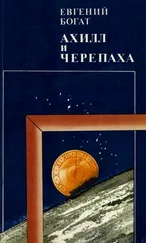А на подоконнике сидела рябая, в ее фигуре, чересчур старательных жестах и широкоскулом лице чувствовалось то мучительное напряжение, которое бывает только у подмастерьев и никогда у мастеров.
В комнату вошла пожилая женщина, маленькая, с мясистым носом. Она в обеих руках осторожно несла большой лист сучковатой фанеры, изукрашенный широкими, небрежными мазками различных тонов.
Королев радостно заулыбался.
— А ну покажи, чего намудрила. Хорошо… А вот это не темно ли? — Он дотронулся пальцем до верхнего мазка.
— Темно? — Она рассмеялась. — Погляди, как серебрится.
— Э, да тут у тебя что-то новое… — сощурился он на соседний соломенно-золотистый мазок.
— А так лучше, — ответила женщина, — чище, рассветнее…
Она стала объяснять, почему найденный ею новый оттенок лучше того, который был раньше одобрен архитектором, и Воронихин догадался, что этот оттенок напоминает ей утренние зори в краю ее детства, и вспомнил вдруг, что он сам видел такую соломенно-золотистую зарю в тихой лесной стороне за Окой, где строил комбинат минеральных удобрений.
— Рассветнее, рассветнее… — повторяла она, выразительно играя тонкими губами.
Посоветовавшись с Воронихиным, Королев и Шишкин решили отделать комнаты второго этажа новым колером. Пожилая женщина улыбалась. Лицо у нее было ласково-самодовольным, как у торговок цветами в первые весенние дни…
Чтобы лучше различить оттенки, они подошли к окну, которое окрашивала с мучительным напряжением рябая. Порой она отрывалась от работы — обмакнув кисть в белила, задумчиво и завистливо оглядывала высокие козлы…
Там, под потолком, решалась судьба нового соломенно-золотистого тона: его долговечность зависела от того, хорошо ли женщины загрунтуют комнату. И они старались.
Но вдруг самая молодая, в ожерельице, попробовала перегнуться назад, как это делала ее подруга, и едва не потеряла равновесие…
Когда вернулись в контору, Воронихин небрежно-грубовато заметил:
— Неужели, черт возьми, нельзя было найти легкую работу для этой женщины?
Шишкин покраснел.
— А вы думаете, я не упрашивал ее? Сама не хочет, говорит, рано… С завтрашнего дня насильно переведу.
Воронихин хотел начать щекотливый разговор о деньгах, но Шишкин сам заговорил об этом:
— Мне рассказывал Михаил Васильевич, что женщины жаловались вчера… Ну что ж! — Он все больше краснел. — Сам Михаил Васильевич был болен в апреле, а я в денежных делах не силен. Какой из меня финансист!
— Покажите мне наряды за март и апрель, — попросил Воронихин, — и вообще, если можно, всю документацию.
После полуторачасового изучения нарядов Воронихин установил, что женщинам заплатили в апреле, из расчета на один день, меньше на рубль восемьдесят пять или девяносто (надо уточнить) копеек. Шишкин с пылающими от смущения щеками пообещал, что этот долг будет возвращен в начале июня…
Потом было решено спуститься в подвал: Королев хотел, чтобы Воронихин посоветовал, как лучше утихомирить подпочвенную воду, которая выступала в одном месте.
Подвал не освещался; старый мастер зажег фонарь.
Бежали минуты…
Воронихин и его новые товарищи вышли под вечереющее небо. Пора было уезжать.
— Где же ваша машина?! — воскликнул Шишкин.
— Я поеду автобусом…
В это время из-за угла выплыла, тяжело шатаясь на ухабах, трехтонка.
— Матвеич! — обратился Шишкин к шоферу тем фамильярно-униженным тоном, каким молодые, не очень уверенные в себе руководители говорят с острыми на язык рабочими. — Матвеич, возьми, пожалуйста, товарища в Москву.
Рядом с шофером сидела женщина. Она хотела было выйти, чтобы уступить место Воронихину, но он закричал: «Не выходите!», забрался в кузов и уже оттуда, нагнувшись на опасном ухабе, помахал рукой Шишкину и Королеву.
Когда выехали на ровную дорогу, он расположился хорошо, даже с комфортом: подмял под себя валявшуюся в углу охапку сена. В нем запутался нежный матовый осколок — должно быть, сегодня перевозили ящики с абажурами…
Воронихин полулежал лицом на запад и видел закат. Солнце садилось в оранжевом дыму. Чуть выше, в подкрашенной этим дымом синеве, неслышно шли облака: вишневые, пепельные с розоватым отливом, янтарно-белые и черные, точно сажа.
Эти облака чем-то — не то формой, не то игрой тонов, а может быть, ни с того ни с сего — напомнили Воронихину торопливые, небрежные мазки на сучковатой фанере…
Но перед ним было небо, огромное, переливчатое, окрашенное оранжевым дымом заходящего солнца.
Читать дальше