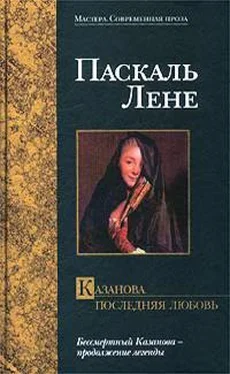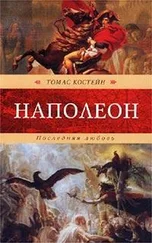Подобные воспоминания, увы, отныне доставляли ему лишь горечь и сожаления.
Одевшись, он сел за столик, на котором потухшая свеча в канделябре напоминала обглоданную кость. Потеки расплавленного и застывшего воска казались ему язвами и экземами, разъедающими члены стариков.
Он взялся за перо.
…Совершив со своей племянницей довольно долгую прогулку по морю на парусной лодке и насладившись одним из тех упоительных вечеров, которые выдаются, думается мне, лишь в Генуэзском заливе, когда на прозрачной, как зеркало, водной глади, посеребренной лунным светом, чувствуешь себя утопающим в запахах, которые зефир собирает на берегу с апельсиновых, лимонных деревьев, алоэ, гранатовых деревьев и жасмина, мы вернулись к себе, благоразумные, но настроенные весьма чувствительно. Поскольку я еще не осмеливался ничего ожидать от моей прекрасной подруги, но нуждался в развлечении, я спросил Аннет, где Венецианка. Она отвечала, что та рано легла, и я тихонько пробрался в ее комнату, не имея, однако ж, иного намерения, как посмотреть на нее спящую. Свет от канделябра разбудил ее, она увидела меня и нисколько не испугалась…
Джакомо выронил перо, чернилами залило последние строчки, но он не обратил на это внимания. Написанное им только что могло исчезнуть сразу же по написании, поскольку все, и счастье тоже, каким бы ярким оно ни было, проходит.
Несколько минут он сидел недвижно, словно уже лишился жизни или думал о своем неизбежном конце. Затем встал — ведь написано: Лазарь должен воскреснуть и ждать дня и часа, — добрел до окна и распахнул его. С запада надвигалась огромная серая туча, оттуда же доносились и раскаты грома.
Вскоре туча закрыла, словно саваном, весь небосвод, по которому в разных направлениях разбегались змейки молний.
В помрачении ума Джакомо воспринял это зрелище столь же естественно, как если бы небо ответило его собственным мыслям. И в тот миг ему не пришло в голову, что вселенная не страдает, не задается вопросами и иными мыслями, помимо наших, не населена.
Влекомый некой притягательной силой, подобной той, что несет нас к предмету вожделения, Казанова внезапно покинул свою спальню, спустился по парадной лестнице, в мгновение ока пересек террасу, возвышающуюся над парком, и двинулся вдоль большого водоема, затем побежал, издавая крики то ли отчаяния, то ли радости. Ветер нес его как соломинку, а дождь густым занавесом окружал его со всех сторон, превращая в призрак из серого дыма.
Под воздействием порывов ветра вода канала стала переливаться через край и выплескиваться, пенясь, на аллею. Раскаты грома вперемешку с молниями окружали Джакомо. Дождь лил как из ведра и четверть часа спустя залил все вокруг. Но старик неуклонно шел вперед, вымокнув до нитки, подставляя лицо и грудь под струи, по силе сравнимые с расплавленным свинцом, и кричал: «Боже! Ты ведь сама доброта! Забери меня нынче, ибо я верую в Тебя и в милосердную смерть, которую Ты посылаешь Своим созданиям!»
Часом позже, словно нарочно, чтобы ему до конца испить чашу стыда, его обнаружил Шрёттер: он сидел, стеная, на земле рядом с поваленным ударом молнии деревом, чья листва обрушилась на него, даже не оцарапав. Бог, конечно же, услышал его и посмеялся над ним, запоздавшим со своим обращением к Нему.
~~~
На следующий день, проспав двенадцать часов кряду, Казанова проснулся отдохнувшим, посвежевшим и с волчьим аппетитом: он не ел с позавчерашнего дня.
В оконное стекло стучал мелкий накрапывающий дождик. Гроза ушла дальше, но негодующие орды туч еще скрещивали озлобленно свои бронзовые щиты. Джакомо подошел к окну и увидел страшное зрелище: несколько деревьев было повалено в водоем.
Он тут же вспомнил вчерашний день: как призывал смерть, желая уподобиться Фаэтону, как избежал ее. Однако он был простым смертным, и Зевсу было не до него: вечный самозванец был не способен на подлинное преступление и не заслужил мной кары, кроме чувства стыда. Как не сумел он насладиться Полиной, так и не снискал благосклонности смерти. Бессильный как любить, так и умереть, Джакомо принял разумное решение утолить единственное желание, которое не могло его подвести.
Голод привел его на кухню — пристанище его недругов, куда он годами не отваживался заглядывать, боясь козней здешней черни. Однако нынче его мысли приняли иной оборот, и он поблагодарил Шрёттера за спасение от верной гибели. Сев за общий стол с другими слугами, он стал макать ржаной хлеб в капустный суп и выпил пива под любопытными или насмешливыми взглядами лакеев.
Читать дальше