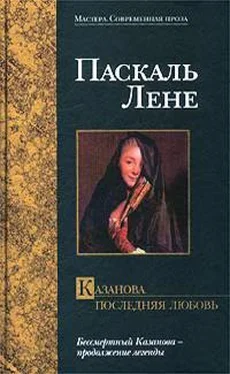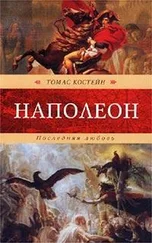Пока Полина приводила в порядок постель и саму больную, Джакомо отвернулся.
Затем она вновь села напротив него, он ей улыбнулся и, снимая нагар со свечи, тоном легкой насмешки произнес:
— Ночь окончилась, Полина, и отныне Бог начнет существовать для вас.
— Как Он существовал вчера, — вставил аббат, поднимаясь и отправляясь к себе, — и как Он будет существовать завтра…
— Довлеет дневи злоба его [44] Ев. от Матфея, VI, 34.
, — ответила Полина, вновь обретя вкус к шуткам.
— И как Он будет существовать после конца времен, — закончил свою мысль аббат.
~~~
К середине утра г-жа де Фонколомб вдруг ожила и много и бессвязно заговорила, сперва словно во сне, затем совершенно проснулась, весьма удивившись тому, что еще жива. Полина кинулась к ней, взяла ее руки в свои и стала покрывать их поцелуями вперемешку со слезами, благодаря судьбу за то, что та вернула ей ее дорогую госпожу.
— Благодарите Небо, как вы обещали этой ночью, — приблизившись, в свою очередь, проговорил Казанова.
— Если вам так угодно, я согласна! Не важно, кто кредитор, я у него в долгу! — и плача, и смеясь, отвечала она.
Больная пригубила кофе. Полина помогала ей, поддерживая ее голову и следя, чтобы она не опрокинула на себя содержимое чашки. Затем она вновь забылась сном.
Казанова и Полина оставались возле нее целый день, опасаясь нового кризиса или какого-то неожиданного поворота в состоянии больной. И все это время они дружески болтали и были похожи на отца с дочерью. Прошедшая ночь была, если можно так выразиться, путешествием, которое они совершили вдвоем, долгим плаванием на пароходе, где им приходилось беспрестанно сталкиваться, но нельзя было поссориться. В них проснулось взаимное уважение, и теперь каждый из них знал, что другой способен на человеческую привязанность, и это невзирая на усилия, которые они прикладывали обычно, чтобы скрыть это друг от друга.
— Я вам благодарна за дружеское участие, хотя мы и придерживаемся разных точек зрения, — повторяла Полина.
— Возраст и время научат вас тому, что человек — это не только его взгляды и точка зрения, так же как невозможно излить в книге свою душу, а еще меньше — изложить всю жизнь.
— Не этим ли вы тем не менее занимаетесь? Я имею в виду «Мемуары».
— Это зеркало, в которое я по собственной слабости частенько гляжусь. Но в зеркалах отражаются не только картины и виды, но и сама личность.
— Значит, писать бессмысленно, если в книгах остается лишь внешнее, видимость.
— Но человек — это и есть видимость. Как бы вы ни старались, он не знает самого себя.
— То бишь, по-вашему, истины нет нигде, ни в книгах, ни помимо них.
— Да, это так, нигде в мире нет истины, ибо мир и сам — одна видимость, сон, очень похожий на реальность, но весьма удаленный от какой бы то ни было истины, поскольку вся его материальность заключается в том, что нам не вырваться из него, как мы вырываемся из объятий Морфея.
— Вы не верите в существование иного мира?
— Я знаю одно: и он, в свою очередь, тоже будет лишь видимостью.
~~~
Была ночь, когда г-жа де Фонколомб очнулась от долгого сна. Полина помогла ей приподняться и сесть на постели. Больная спросила бульона и вина.
Подкрепившись, она отослала Полину, сказав, что больше не нуждается в ней и хочет остаться с глазу на глаз с шевалье.
Казанова придвинул кресло к изголовью кровати: голос его подруги был еще так слаб, что звучал не громче теплого ветерка, задувающего в спальню.
— Мой дорогой Жак, — прошептала она, — ты не разочаровал меня, ты все тот же, что и в моих воспоминаниях, которые я берегла пятьдесят лет как самое ценное из сокровищ, и ты все так же дорог моему сердцу.
Казанова взял протянутую ему руку — руку Генриетты, и сжал ее в своих руках. Они молчали, сдерживая слезы.
— Но ты не узнал меня, — продолжила она с улыбкой, — пока я не показала тебе некий знак, который раскрыл тебе мою душу. Неужто ты больший слепец, чем я, мой бедный друг? Неужто забыл Генриетту?
— Я не забыл ничего, — твердо отвечал Казанова. — Ни тебя, ни печальных слов, начертанных острой гранью бриллианта на стекле окна в тот роковой день, когда мы расстались навеки.
Он вынул из жилетного кармана лист тончайшей, пожелтевшей от времени бумаги и бережно развернул его: написанные правильным почерком строчки покрывали его.
Г-жа де Фонколомб взяла листок и долго ощупывала его, словно пытаясь прочесть с помощью пальцев. Казанова помнил наизусть каждое из слов, полвека освещавших его жизнь и рассеивающих непроглядную ночь его скептицизма.
Читать дальше