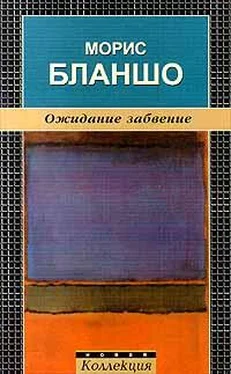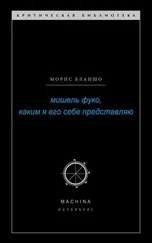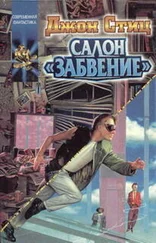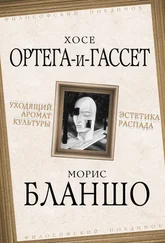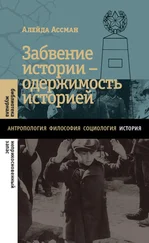Отметим также и сходство касающихся ожидания сентенции с посвященной вниманию мыслью Симоны Вейль (в «Ожидании Бога») (прим. пер.).
в пути (фр.) (прим. пер.)
в «Кромешном письме» (L'Ecriture du desastre, 1986) (прим. пер.)
или: «Сделай так, чтобы я могла с тобой поговорить» (прим. пер.)
Трактовка этого места текста представляется нам ошибочной. У нас: «К речи, так сказать, запретной (interdite)» (прим. пер.)
центральная точка (фр.)
В первую очередь во «Взгляде Орфея» (прим. пер.)
и русским (прим. пер.)
Recit — Рассказ, повествование (фр.). О роли этого понятия у Бланшо см. его эссе «Пение Сирен» в книге М. Бланшо, Последний человек, СПб., 1997 и наше послесловие к этой книге.(прим. пер.)
в оригинале «отвернувшись от своего присутствия, чтобы друг для друга присутствовать» (прим. пер)
скорее запрещена. (прим. пер.)
Если роман понимается Бланшо вполне в русле литературных канонов, то противопоставляет он ему свое собственное, новое для литературоведения жанровое определение — recit, которое мы с известной долей приближения переводим как рассказ. Это не рассказ или повесть в традиционном смысле этого слова (Бланшо числит по разряду рассказа и «В поисках утраченного времени», и «Моби Дик»), recit, как правило, вовсе не употребляется для обозначения жанра. Французское слово recit — отглагольное существительное, обладающее привкусом повторности и сохранившее в себе сильный заряд действия, recit — это процесс, но не жанр, рассказ как речитация, рецитирование.
В переводе И. Стаф опубликован в ИЛ № 10 за 1993 год.
Три последних текста собраны в книге: М. Бланшо. Последний человек, СПб, 1997; там же можно ознакомиться с более подробной статьей о его творчестве.
Сама бессоюзно-несогласованная стыковка слов в названии тоже была обкатана в назывных предложениях «Последнего человека».
Кратким выражением этой несбыточной тяги служит рефрен первой части: «Сделай так, чтобы я могла говорить».
Необходимостью сохранить в переводе как эту чреватую отождествлением подмену, так и ключевое для взаимодействия систем Хайдеггера и Деррида понятие «присутствие», и объясняется появление в русском тексте достаточно неуклюжей «явленности в присутствие».
См. о нем статью Деррида «Метафизика и насилие» в его книге «Письмо и различие» (1967).