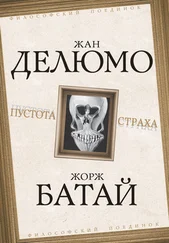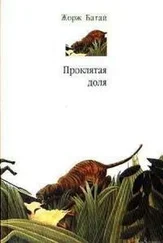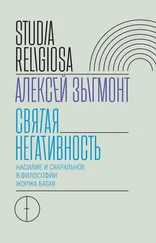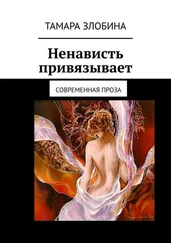Михаил Ямпольский следующим образом резюмирует эту эстетику гниения у С. Дали: «Дали называет „три великих подобия — дерьмо, кровь и гниль“. Эти три великих подобия могут принимать любые обличья, поскольку лишены твердой формы. Они метаморфичны и потому могут быть сравнимы с любым явлением и предметом… Гниение уравнивает все формы животного мира. Возникает возможность все выражать через все. Гнилой осел [в фильме „Андалузский пес“. — С. 3. ] превращается в „сверхзнак“, символ гиперкоммутационности». — Ямпольский Михаил. Память Тиресия: Интертекстуальность и кинематограф. М.: Культура, 1993. С. 316, 317.
Bataille Georges. Œuvres complètes: Paris: Gallimard, 1970. Vol. 1. P. 217. Дени Олье, анализируя этот текст как декларацию «антиархитектурной», «бесформенной» эстетики Батая, отмечает, что мотив плевка как образца бесформенности разрабатывался в то же время и другом Батая, писателем Мишелем Лейрисом (см.: Hollier Denis. La prise de la Concorde // Op. cit. P. 63). Немаловажно и еще одно обстоятельство: в культуре второй половины XIX — начала XX века мотив плевка устойчиво связывался с идеей туберкулезной инфекции (см. об этом новейшую статью: Palaciojean de. Poétique du crachat Il Romantisme. 1996. № 94. P. 73–88, автор которой, в частности, отмечает ассоциативную связь плевка с «гнилостью не только человеческого тела, но и социального тела, всего человечества» — ibid. Р. 83). Для Батая эта тематика имела вполне личную значимость: он сам дважды, во время Первой и Второй мировых войн, болел туберкулезом, в 1939 году от той же болезни умерла его подруга Лаура (Колетт Пеньо).
Один только пример, где она развернута в целую картину непристойно-эротического (в данном случае еще и пьяного) тела: «Раскинувшись по-звериному, она дрыгала ногами, и из-под ее чулок выступала голая кожа» («Юлия», с. 209).
Не следует ли усматривать в развитии этого кошмара, помимо прочего, мрачную пародию на гегелевскую концепцию трех стадий эволюции мирового искусства? Если лошадиный череп на туловище из рыбьей кости может считаться воплощением чудовищно-«символической» архаики, а статуя Минервы, безусловно, символизирует собой классику, то допустимо ли рассматривать «волосатый мрамор» финальной фигуры из борделя в качестве образца «романтического» искусства? Учитывая острый критический интерес Батая к философии Гегеля в 30-е годы, такая гипотеза не кажется совсем неправдоподобной.
См.: Hillenaar Непк. Nadja et Edwarda // Vitalité et contradictions de l'avant-garde; Italie — France, 1909–1924 / Ed. par S. Briosi, H. Hillenaar. Paris: Corti, 1988. P. 128.
Нижеследующие наблюдения опираются на анализ «конвульсивного тела», осуществляемый (на другом материале) в книге: Ямпольский Михаил. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М.: Новое литературное обозрение, 1996. Гл. 1 и 2.
Со снимками познакомил Батая психиатр А. Борель, использовавший их в ходе своего психоаналитического курса — курса, непосредственным результатом которого стало написание Батаем «Истории глаза», как он сам объясняет в послесловии к книге. Можно предположить, что эти снимки явились одним из источников фантазма «раздавленной велосипедистки».
См.: Surya Michel. Op. cit. P. 568.
Lacan Jacques. Ecrits. Paris: Seuil, 1966. P. 90–91.
Точно так же и смех, одна из важнейших категорий батаевской антропологии, может уравниваться с тошнотой (заодно подтверждая уже отмеченную выше эквивалентность смеха и плача): «…мною овладело бессильное желание засмеяться, безумный инертный смех разверзал и сдавливал мне сердце. Я думал, что у меня тошнота, но дело было серьезнее» («Аббат С», с. 319).
В рукописном варианте «Невозможного»: «струйка крови течет из раны, смешивается с пеной у рта, со слезами, омывает мое голое бедро» (Bataille Georges. Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 1971. Vol. 3. P. 527). В этом тотальном истечении намеком угадывается и моча, текущая «по голому бедру». Ср. другое осмысление «пены у рта» — в духе инфантильной слабости, хотя и связанной с работой письма: «Я буду писать свою часть повествования и приносить написанное на каждый сеанс. В этом и заключалась суть психотерапевтического курса… Я согласился: я был как ребенок, которому повязали на шею слюнявчик и который готов преспокойно распустить слюни. Я сказал это врачу, и он засмеялся и подтолкнул меня.
— Вот видите, — сказал он мне, — все это инфантильно, с начала и до конца, и даже в самом строгом смысле этого слова…» («Аббат С», с. 319–320).
Читать дальше

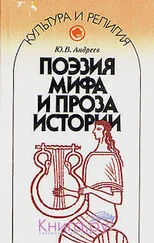

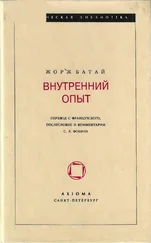
![Тимонг Лайтбрингер - Ненависть, Неверие, Надежда [проза]](/books/278765/timong-lajtbringer-nenavist-neverie-nadezhda-pr-thumb.webp)