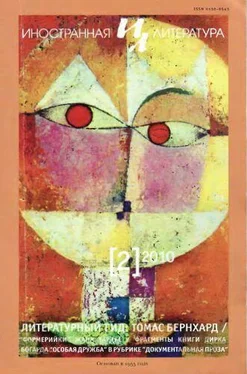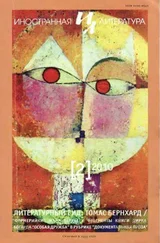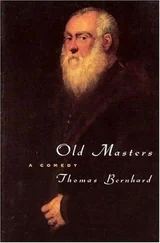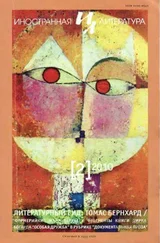Как и я, он был из семьи коммерсантов, думал я. Однажды отец загорелся идеей подарить ему на день рождения замок Мархфельд, изначально принадлежавший графскому роду Харрахов, но сын не изъявил желания даже взглянуть на уже купленный замок, после чего, естественно, отец, взбешенный бесчувственностью сына, снова продал его, думал я. Брат и сестра Вертхаймеры вели, по сути, скромную жизнь — непритязательную, незаметную, — всегда более или менее держались в тени, все остальные на их фоне казались фанфаронами. В Моцартеуме богатство Вертхаймера тоже не бросалось в глаза. Как, впрочем, и богатство Гленна — Гленн тоже был богатым, и это тоже никогда не бросалось в глаза. Задним числом стало ясно, что богатые, так сказать, тянутся к богатым, думал я, у них нюх на своих. Гениальность Гленна была, так сказать, всего лишь желанным дополнением, думал я. Дружба, думал я, в конце концов, как показывает опыт, невозможна на длительный срок, если она не строится на общем для всех заинтересованных лиц фундаменте, думал я, все остальное обман. Я снова на мгновение удивился тому хладнокровию, с которым я сошел в Атнанг-Пуххайме и отправился в Ванкхам, чтобы поехать в Трайх, в охотничий дом Вертхаймера, — даже ни секунды не подумав о том, чтобы заехать в собственный дом в Дессельбруне, который пустует вот уже пять лет и который, как я полагаю, раз уж я плачу кому нужно, проветривают каждые четыре или пять дней; и с каким же хладнокровием я собираюсь переночевать здесь, в Ванкхаме, в самой отвратительной из всех известных мне гостиниц, когда меньше чем в двенадцати километрах отсюда у меня есть собственный дом — но в этот дом, как я тотчас же подумал, я не поеду ни при каких условиях, потому что пять лет назад я дал себе клятву по меньшей мере еще лет десять не ездить в Дессельбрун, и до сих пор я не испытывал никаких трудностей в том, чтобы следовать данной клятве, а значит, и владеть собой. В один прекрасный день Дессельбрун стал порядочно отравлять мою жизнь, он стал совершенно невозможным для жизни, думал я, — из-за моего длительного затворничества в Дессельбруне. Начало затворничеству положила неприязнь к «Стейнвею»: это был, так сказать, отправной момент дальнейшей невозможности терпеть Дессельбрун. Я вдруг почувствовал, что больше не могу дышать дессельбрунским воздухом, а дессельбрунские стены сводили меня с ума, комнаты грозили удушьем, подумать только, такие огромные комнаты — по пятьдесят четыре, по шестьдесят четыре квадратных метра, думал я. Я ненавидел эти комнаты, и я ненавидел все, что находилось в них, и, когда я выходил из дома, я ненавидел людей перед домом — ни с того ни с сего я стал несправедлив ко всем этим людям, которые
желали мне лишь добра, но именно это стало со временем меня нервировать, их бесконечная
готовность помочь, которая стала мне вдруг глубоко отвратительна. Я заперся в своем кабинете и неотрывно смотрел в окно, не видя за ним ничего, кроме собственного несчастья. Я выбегал на улицу и оскорблял каждого встречного. Я бежал в лес и, обессиленный, прижимался к дереву. Фактически я порвал с Дессельбруном, чтобы не потерять рассудок;
по меньшей мере на десять лет, по меньшей мере на десять лет, по меньшей мере на десять лет, все время повторял я про себя, когда оставлял дом и отправлялся в Вену, чтобы оттуда уехать в Португалию, где у меня жили родственники — в Синтре, в самом прекрасном месте Португалии: там эвкалиптовые деревья вырастают до тридцатиметровой высоты и самый лучший воздух. В Синтре я найду в себе силы вернуться к музыке, которую в Дессельбруне я изгнал из своей жизни, как я тогда думал, основательно и, так сказать, на все времена; я восстановлю силы упражнениями на вдыхание атлантического воздуха, рассчитанными по хитроумной математической формуле. Тогда я еще думал, что на «Стейнвее» своего дяди из Синтры смогу начать с того, чем закончил в Дессельбруне, но это была безумная мысль, думал я, в Синтре я каждый день ходил по шесть километров туда и обратно вдоль атлантического побережья и восемь месяцев даже и не думал о том, чтобы сесть за рояль, хотя и дядя, и вся его родня то и дело упрашивали меня что-нибудь им сыграть, в Синтре я ни разу не прикоснулся к клавишам; но, как бы то ни было, в Синтре во время прекрасного ничегонеделания на свежем воздухе — и, нужно признать, в самом красивом месте
на свете — я пришел к мысли написать что-нибудь о Гленне,
что-нибудь, я не мог знать что,
что-нибудь о нем и о его искусстве. С этой мыслью я бродил по Синтре и в округе и в итоге провел там целый год, так и не начав писать
что-то о Гленне. Ведь приступить к сочинению — это самое-самое трудное, и я месяцами, даже годами ношусь с мыслями о таком сочинении, будучи не в состоянии к нему приступить, так было и с Гленном, которого, как я тогда думал, должен был бы описать компетентный свидетель его жизни и его игры на рояле, компетентный свидетель его совершенно необычайного ума. В один прекрасный день я решился приступить к сочинению в отеле «Инглатерра», я намеревался пробыть там всего два дня, а в конечном счете пробыл шесть недель, ни на минуту не прекращая работу над сочинением о Гленне. Правда, под конец, когда я переезжал в Мадрид, у меня в портфеле были лишь наброски, да и эти наброски я уничтожил, потому что они, вместо того, чтобы мне пригодиться, вдруг стали помехой в моей работе, я сделал слишком много набросков — эта напасть сгубила не один мой труд; нам необходимо делать наброски к работе, но если мы сделаем слишком много набросков, то этим все испортим, думал я, и тогда, в «Инглатерре», я не выходил из своего номера и делал наброски так долго, пока мне не стало казаться, что я сошел с ума, пока я не понял, что причиной моего сумасшествия являются эти наброски о Гленне и что я в силах их уничтожить. Я просто-напросто сунул их в корзину для бумаг и потом наблюдал за тем, как горничная взяла эту корзину, вынесла ее из номера и выкинула бумаги в мусор. Мне было приятно, думал я, смотреть, как горничная выносит мои наброски о Гленне — не просто сотни, а тысячи набросков — и выкидывает их. Мне стало легче, думал я. Всю вторую половину дня я просидел в кресле у окна, с наступлением сумерек я смог покинуть «Инглатерру» и пойти в «Либердаде», мой любимый лиссабонский ресторан на руа Гарретт. Я предпринял восемь подобных попыток приступить к работе, каждый раз они заканчивались уничтожением набросков — до того самого момента, когда в Мадриде я наконец понял,
как начать сочинение "О Гленне", которое я потом, разумеется, закончил на Калле-дель-Прадо, думал я. Однако я сразу же снова засомневался, что сочинение это имеет хоть какую-то ценность, и стал подумывать о том, чтобы уничтожить его по возвращении; все нами написанное, если мы долгое время не прикасаемся к нему и все время перечитываем сначала, становится, что естественно, для нас невыносимо, и мы не успокоимся до тех пор, пока снова все не уничтожим, думал я. На следующей неделе я опять буду в Мадриде, и первое, что надо бы сделать, — это уничтожить
сочинение о Гленне, чтобы начать новое, думал я, новое и еще более обстоятельное, еще более достоверное, думал я. Ведь мы каждый раз думаем, что мы вполне достоверны, а на самом деле это не так, думаем, что мы обстоятельны, а на самом-то деле все иначе. В моем случае, разумеется, осознание этого факта всегда приводило к тому, что в итоге ни одно мое сочинение так и не появилось в печати, думал я, за двадцать восемь лет, что я занимаюсь сочинительством, не опубликовано ничего, одним только сочинением о Гленне я занимаюсь вот уже девять лет, думал я. Как хорошо, что эти неполноценные, незаконченные сочинения не появились на свет, думал я, опубликуй я их, а для меня это не составило бы труда, я был бы сейчас самым несчастным человеком, какого только можно себе представить, ежедневно обреченным страдать из-за своих ужасных сочинений, изобилующих ошибками, неточностями, небрежностями, дилетантских. Этого наказания я
избежал с помощью их уничтожения, думал я, вдруг испытав огромное удовольствие от слова
уничтожение. Я повторил его про себя несколько раз.
По приезде в Мадрид сразу же уничтожить сочинение о Гленне, думал я, оно должно исчезнуть как можно скорее, чтобы я мог написать новое. Я никогда не знал,
как начать это сочинение, а теперь знаю, каждый раз я начинал слишком рано, думал я, по-дилетантски. Всю жизнь мы бежим от дилетантства, а оно всякий раз настигает нас, думал я, и ничего мы не желаем так сильно, как избежать дилетантства, и всякий раз оно нас настигает.
Гленн и беспощадность, Гленн и одиночество, Гленн и Бах, Гленн и «Голдберг-вариации», думал я.
Гленн в своей студии в лесу, его ненависть к людям, его ненависть к музыке, его ненависть к людям музыки, думал я.
Гленн и простота, думал я, рассматривая холл. Мы с самого начала должны знать, чего хотим, думал я, уже в голове ребенка должно сложиться четкое представление о том, чего человек хочет, что хочет иметь, что должен иметь, думал я. Время, что я просидел в Дессельбруне, а Вертхаймер — в Трайхе, думал я, было убийственным. Взаимные визиты и взаимная критика, думал я, которая нас разрушала. Я ездил к Вертхаймеру в Трайх только для того, чтобы его разрушать, чтобы мешать ему жить и разрушать его, и Вертхаймер, со воей стороны, приезжал ко мне с такой же целью; поехать в Грайх значило лишь отвлечься от собственной ужасной духовной нищеты и мешать Вертхаймеру; обмен воспоминаниями молодости, думал я, за чашкой чаю, и непременно Гленн Гульд в центре воспоминаний, не Гленн, а Гленн Гульд, уничтоживший нас обоих, думал я. Вертхаймер приезжал в Дессельбрун, чтобы мне мешать; как только он уведомлял меня о своем приезде, он в тот же момент душил в зародыше начатую мной работу. Он постоянно говорил:
если бы мы не встретили Гленна, — еще, правда, говорил иногда:
если бы Гленн умер прежде, чем стал мировой знаменитостью, думал я. Мы встречаем такого человека, как Гленн, и мы уничтожены, думал я, или же спасены, в нашем случае Гленн уничтожил нас, думал я. Я никогда не играл на «Бёзендорфере», говорил Гленн, думал я, с «Бёзендорфером» я ничего не добьюсь. Пианисты, играющие на «Бёзендорферах», — против пианистов, играющих на «Стейнвеях», энтузиасты «Стейнвея» — против энтузиастов «Бёзендорфера». Сначала ему в комнату поставили «Бёзендорфер», но он немедленно заставил его вынести, поменять на «Стейнвей», думал я, я бы тогда, в Зальцбурге, в самом начале занятий у Горовица, не осмелился такого потребовать, думал я; уже в то время Гленн был совершенно верен в своем деле, о «Бёзендорфере» и речи быть не могло, он бы все испортил. И «Бёзендорфер» ему беспрекословно заменили на «Стейнвей», хотя тогда Гленн еще не был Гленном Гульдом. Я и сейчас вижу, как грузчики выносят из его комнаты «Бёзендорфер» и заносят туда «Стейнвей», думал я. Зальцбург — не место для развития пианиста, часто говорил Гленн, слишком сырой климат — он погубит инструмент и одновременно погубит пианиста, очень быстро погубит руки и мозг пианиста. Но я хотел учиться у Горовица, говорил Гленн, это имело решающее значение. В комнате Вертхаймера всегда были задернуты шторы и опущены жалюзи, Гленн играл, раздвинув шторы и подняв жалюзи, а я всегда играл, еще и распахнув окна. К счастью, вокруг больше не было домов, а значит, и людей, которых мы могли бы раздражать, ведь они свели бы все наши усилия на нет. На время класса у Горовица мы сняли дом умершего за год до того нацистского скульптора,
творения мастера, как их называли в окрестностях, стояли повсюду в комнатах с потолками высотой от пяти до шести метров. Из-за высоких потолков мы
сразу же сняли этот дом, стоявшие повсюду скульптуры не мешали нам, наоборот, они улучшали акустику, эти пошлые, громоздкие, придвинутые к стенам скульптуры, как нам сказали,
всемирно известного ваятеля из мрамора, десятилетиями работавшего на Гитлера. Эти огромные мраморные выродки, которых домовладельцы на самом деле придвинули из-за нас к стенам, были идеальны с акустической точки зрения, думал я. Сначала мы испугались этих скульптур, этого тупого мраморного и гранитного монументализма, прежде всего Вертхаймер, который от них отпрянул, но Гленн тотчас же заверил нас в том, что эти комнаты
идеальны, а монументы делают
их еще более идеальными для нашей цели. Скульптуры были такими тяжелыми, что попытка сдвинуть хотя бы самые маленькие из них не увенчалась успехом, наших сил не хватило, а ведь мы не были слабаками, пианисты-виртуозы — люди сильные, обладающие, вопреки расхожему мнению, необычайной выносливостью. Гленн, про которого сейчас все думают, что он был крайне слабой конституции, был на самом деле атлетом. Когда он, уйдя в себя, играл на «Стейнвее», он выглядел как калека, таким знает его весь музыкальный мир, но музыкальный мир находится в плену всеобщего заблуждения, думал я. Гленна, где бы то ни было, всегда представляют как калеку и слабака, как
одухотворенную личность, ему приписывают лишь ущербность и идущую рука об руку с ущербностью гиперчувствительность, хотя на самом-то деле он был атлетом, намного сильней нас с Вертхаймером вместе взятых, это мы поняли сразу же, как только он решил собственноручно спилить мешавший, как он выразился, его игре ясень, росший под окном. Он спилил ясень, диаметр ствола которого был самое меньшее полметра, спилил в одиночку и вообще не позволил нам ему помочь, распилил его и сложил дрова у стены дома, типичный американец, подумал я тогда, думал я сейчас. Как только Гленн спилил якобы мешавший ему ясень, он вдруг сообразил, что всего-то и надо было, что задернуть шторы в комнате и опустить жалюзи. Можно было не спиливать ясень, сказал он, думал я. Мы часто спиливаем такие вот деревья, очень много таких духовных деревьев, сказал он, а могли бы избавить себя от этого с помощью смешной уловки, сказал он, думал я. Уже тогда, когда он в первый раз сел за «Стейнвей» в Леопольдскроне, этот ясень за окном ему мешал. Он даже не спросил хозяина дома — пошел в сарай, взял топор и пилу и спилил ясень. Если я буду просить разрешения — все затянется надолго, сказал он, и я только потрачу силы и время, я спилю ясень немедленно, сказал он, и спилил, думал я. Не успел ясень еще даже повалиться, как он сообразил, что нужно было лишь задернуть шторы, опустить жалюзи. Он без нашей помощи распилил лежавший на земле ясень на дрова, думал я, сообразно своим представлениям он установил абсолютный порядок на том месте, где стоял ясень. Если что-то нам мешает, мы должны это устранить, сказал Гленн, даже если это всего-навсего ясень. И уж мы-то можем не спрашивать, можно ли нам повалить ясень, потому что, спрашивая, мы только ослабляем себя. Если мы сначала спрашиваем, то этим мы сразу же ослабляем себя, нам это вредно, возможно, даже разрушительно, говорил он, думал я. Я тотчас же подумал, что никому из его слушателей, его обожателей и в голову не приходило, что этому Гленну Гульду, прославившемуся и ставшему знаменитым на весь мир в качестве, так сказать, самого физически слабого из артистов, было под силу в одиночку и очень быстро повалить сильный, здоровый ясень в полметра толщиной, разрезать на части и аккуратно сложить их у стены, и все это в ужасных климатических условиях, думал я. Обожатели обожают фантом, думал я, они обожают Гленна Гульда, которого никогда не было. Но
мой Гленн Гульд еще более велик, чем их, он заслуживает еще большего обожания, думал я. Когда нам сказали, что мы въехали в дом известного нацистского скульптора, Гленн разразился громогласным смехом. Вертхаймер присоединился к этому громогласному смеху, думал я, они оба заливались смехом до полного изнеможения, а потом принесли из подвала бутылку шампанского. Гленн выстрелил пробкой прямо в лицо шестиметровому ангелу из каррарского мрамора и плескал шампанским в лица остальным стоявшим вокруг чудовищам, пока в бутылке не осталось совсем немного шампанского, и мы допили остатки. Потом Гленн швырнул бутылку в голову императора, стоявшего в углу, с такой яростью, что нам пришлось прикрываться от полетевших осколков. Никто из этих обожателей Гленна вообще никогда не поверит в то, что Гленн Гульд может смеяться так, как он всегда смеялся, думал я. Наш Гленн Гульд смеялся так неудержимо, как никто другой, думал я, и поэтому его надо воспринимать исключительно серьезно. Того, кто не смеется, нельзя воспринимать серьезно, думал я, а того, кто не может смеяться, как Гленн, нельзя воспринимать так серьезно, как Гленна. Около трех часов ночи он, совершенно изможденный, опустился к ногам императора, он и его «Гольдберг-вариации», думал я. Все время вспоминается эта картина: Гленн, прислонившийся к лодыжке императора и уставившийся в пол. С ним невозможно было заговорить. С наступлением утра он
родился заново, сказал он. Каждый день у меня на плечах новая голова, говорил он, в то время как для всего мира она прежняя, говорил он. Вертхаймер через день ходил в пять часов утра до Унтерсберга и обратно, по счастью, он обнаружил заасфальтированную дорогу, ведущую к Унтерсбергу, сам я перед завтраком только раз делал круг вокруг дома, в любую погоду, абсолютно голым, а потом умывался. Гленн выходил из дома только для того, чтобы пойти к Горовицу, а потом возвращался. По сути, я ненавижу природу, все время говорил он. Я присвоил эту фразу и говорю ее себе и сегодня, и буду, как полагаю, говорить ее всегда, думал я.
Природа против меня, говорил Гленн, смотря на мир так же, как и я, я и теперь все время говорю эту фразу, думал я. Наше существование заключается в том, чтобы постоянно быть против природы и вести против природы борьбу, говорил Гленн, вести борьбу против природы до тех пор, пока не признаешь себя побежденным, потому что природа сильней нас, мы высокомерно превратили себя в
артефакты. Мы, конечно же, не люди,
мы артефакты, пианист — это отвратительный артефакт, закончил он. Мы из тех, кто постоянно хочет пуститься от природы наутек, но у нас, естественно, не получается, сказал он, думал я; мы застреваем на полпути. По сути, мы хотим быть роялем, сказал он, хотим быть не людьми, а роялем, всю жизнь хотим быть роялем, а не человеком, мы убегаем от человека, которым мы являемся, чтобы всецело стать роялем, этого, однако, у нас не должно получиться, хотя мы и отказываемся в это верить, говорил он. Идеальный исполнитель на рояле (он никогда не говорил
пианист!) — тот, кто хочет быть роялем, и я, разумеется, каждый день просыпаюсь и говорю себе: хочу быть «Стейнвеем», не человеком, который играет на «Стейнвее», а самим «Стейнвеем». Порой мы близки к этому идеалу, говорил он, очень близки, а именно тогда, когда нам кажется, что мы уже сошли с ума, когда мы уже чуть ли не погружаемся в безумие, которого боимся как ничего другого. Всю жизнь Гленн хотел стать «Стейнвеем», он ненавидел мысль о том, что он всего лишь посредник
между музыкой Баха и «Стейнвеем» и что однажды Бах и «Стейнвей» сотрут его в порошок, однажды, говорил он; с одной стороны, Бах, а с другой — «Стейнвей», и они сотрут меня в порошок, сказал он, думал я. Всю жизнь я боюсь быть стертым в порошок Бахом и «Стейнвеем», ему стоило большого напряжения освободиться от этого страха, говорил он. В идеале мне нужно было
стать «Стейнвеем», Гленн Гульд тогда был бы не нужен, сказал он; если бы я был «Стейнвеем», то Гленн Гульд тогда был бы совершенно лишним. Но ни одному исполнителю на рояле до сих пор не удавалось избавиться от себя,
будучи при этом «Стейнвеем», говорил Гленн. Проснуться в один прекрасный день
и быть сразу и «Стейнвеем», и Гленном, сказал он, думал я .
Гленн Стейнвей, Стейнвей Гленн, и только для исполнения Баха. Вертхаймер, возможно, ненавидел Гленна; меня, возможно, он тоже ненавидел, эта мысль основывается на тысячах, на десятках тысяч замечаний Вертхаймера относительно нас с Гленном. Я и сам был несвободен от ненависти к Гленну, думал я, я ненавидел Гленна каждое мгновение и одновременно любил его с исключительным постоянством. Нет ничего более ужасающего, чем смотреть на человека, величественного настолько, что его величие нас уничтожает, и мы наблюдаем за этим процессом уничтожения, и терпим, и в конце концов вынуждены принять его как данность, хотя на самом деле не верим в реальность подобного процесса до тех пор, пока он не становится неопровержимым фактом, думал я, не верим до тех пор, пока длянас не оказывается поздно. Мы с Вертхаймером были необходимы Гленну для развития, Гленн использовал нас, как и всех остальных, думал я в холле. Бесстыдство, с которым Гленн подходил ко всему, ужасная нерешительность Вертхаймера, мое предубеждение против всех и каждого, думал я. Внезапно Гленн стал
Гленном Гульдом, момент превращения в Гленна Гульда, надо сказать, все проглядели — и Вертхаймер, и я. Многие месяцы Гленн вовлекал нас в совместный процесс истощения, думал я, в одержимость Горовицем; в одиночку я, конечно, не выдержал бы этих двух с половиной месяцев зальцбуржекого класса у Горовица, а уж Вертхаймер и подавно, без Гленна я бы сдался. Да и сам Горовиц, не будь у него Гленна, не был бы тем самым Горовицем, ведь они взаимообусловливали друг друга. Это были уроки Горовица для Гленна, думал я, стоя в гостинице, — и никак иначе. Это Гленн сделал из Горовица своего учителя, а не Горовиц сделал гения из Гленна, думал я. За эти зальцбуржские месяцы Гленн с помощью своего гения сделал из Горовица идеального воспитателя своего гения, думал я. Мы либо целиком погружаемся в музыку, либо не погружаемся в нее совсем, часто говорил Гленн, и Горовицу — тоже. Лишь он один знал, что это значит, думал я. Гленн должен был повстречать на своем пути Горовица, думал я, и притом в единственно верный момент. Если этот момент неверный, то ни у кого не получится то, что получилось у Гленна с Горовицем. Учителя, который гением не является, гений делает своим гениальным учителем лишь в этот конкретный момент, в точно определенное время, думал я. Но настоящей жертвой этих уроков Горовица был конечно не я, а Вертхаймер, который, не будь Гленна, стал бы превосходным, возможно, даже знаменитым на весь мир пианистом-виртуозом, думал я. Он сделал ошибку, поехав в тот год в Зальцбург к Горовицу, чтобы быть уничтоженным, уничтоженным не Горовицем, а Гленном. Вертхаймер
хотел стать пианистом-виртуозом, я-то этого совсем не хотел, думал я, для меня виртуозная игра на рояле была лишь бегством, тактикой затягивания времени, отсрочкой чего-то, хотя мне никогда не было ясно и до сих пор не ясно — чего; Вертхаймер хотел стать пианистом, я — не хотел, думал я, он на совести Гленна, думал я, Гленн сыграл всего лишь несколько тактов, и Вертхаймер сразу же подумал о капитуляции, я хорошо помню, Вертхаймер зашел в аудиторию, выделенную Горовицу на втором этаже Моцартеума, и услышал, увидел Гленна, встал как вкопанный у двери, будучи не в состоянии сесть, Горовиц попросил его сесть, но Вертхаймер не мог сесть, пока играл Гленн, и лишь когда Гленн закончил играть, Вертхаймер сел, закрыл глаза, не сказал больше ни слова, эта картина все еще ясно стоит у меня перед глазами, подумал я. Говоря патетически, это был конец, конец вертхаймеровской карьеры виртуозного пианиста. Мы десять лет учимся играть на инструменте, который выбрали для себя, а потом услышим, после всех этих изнурительных, довольно-таки удручающих десяти лет, несколько тактов в исполнении гения, и с нами покончено, думал я. Вертхаймер не признавался в этом годами. Но эти нескодько тактов в исполнении Гленна стали его смертью, думал я. Для меня — нет, ведь еще до того, как познакомился с Гленном, я уже думал о том, чтобы все бросить, думал о бессмысленности своих усилий, там, откуда я пришел, я всегда был лучшим, я к этому привык, мне не была противна мысль все бросить, прекратить бессмыслицу, несмотря на все голоса, уверявшие меня в том, что я отношусь к лучшим, ведь принадлежать к лучшим мне было недостаточно, я хотел быть
лучшим или не быть совсем, поэтому я все бросил, подарил свой «Стейнвей» дочери учителя из Альтмюнстера, думал я. Вертхаймер же, надо сказать, поставил все на карьеру виртуозного пианиста, я на карьеру виртуозного пианиста ничего не ставил, в этом была разница. Поэтому
он был
насмерть сражен гленновскими гольдберг-тактами, а
я — нет. Быть лучшим или не быть совсем — всегда было моим девизом, во всех отношениях. И поэтому в конце концов я поселился на Калле-дель-Прадо в полной анонимности, развлекаясь бессмысленной писаниной. Вертхаймер, насколько я знаю, хотел стать виртуозным пианистом, который доказывал бы свое мастерство музыкальному миру год за годом, до потери сознания, до седых волос. С этой цели его сбил Гленн, думал я, стоило лишь Гленну сесть и сыграть первые такты «Гольдберг-вариаций». Вертхаймеру
выпало услышать его игру, думал я, ему
выпало быть уничтоженным Гленном. Если бы только я не поехал в Зальцбург, если бы не захотел учиться непременно у Горовица, то я бы продолжал и дальше, достиг бы, чего хотел, часто говорил Вертхаймер. Но Вертхаймеру на роду было написано поехать в Зальцбург и, как говорится, записаться к Горовицу. Мы уже уничтожены, но все не сдаемся, думал я, Вертхаймер — превосходный тому пример: многие годы после того, как был уничтожен Гленном, он не сдавался. Самому ему ни разу не пришла мысль расстаться со своим «Бёзендорфером», думал я, сначала мне пришлось подарить свой «Стейнвей», чтобы он решился пустить с молотка свой «Бёзендорфер», он бы никогда не подарил свой «Бёзендорфер», он обязан был пустить егр с молотка в Доротеуме, это о нем многое говорит, думал я. Я подарил «Стейнвей», а он «Бёзендорфер» пустил с молотка, думал я, этим все сказано. Все вертхаймеровское исходило не от самого Вертхаймера, сказал я себе, все вертхаймеровское всегда было лишь чем-то подсмотренным, было подражанием, он все подглядывал у меня, он все повторял за мной, таким образом, и мое поражение он подсмотрел у меня и повторил за мной, думал я. И лишь самоубийство в итоге было его собственным решением и исходило от него самого, думал я, так что в конце он, как говорится, вполне мог ощутить триумф. Возможно, он даже меня превзошел в том, что по собственному, так сказать, почину покончил с собой, думал я. Слабые характером всегда будут слабыми артистами, сказал я себе, пример Вертхаймера совершенно недвусмысленно это подтверждает, думал я. Натура Вертхаймера была полной противоположностью натуре Гленна, думал я, у него имелся так называемый
взгляд на искусство, а Гленн в этом не нуждался. В то время как Вертхаймер постоянно задавал вопросы, Гленн вообще не задавал никаких вопросов, я никогда не слышал, чтобы он задавал вопросы, думал я. Вертхаймер всегда боялся, что что-нибудь будет ему не по силам, Гленну даже и в голову не приходило, что ему что-то будет не по силам, Вертхаймер каждую минуту извинялся даже тогда, когда у него не было ни малейшей причины извиняться, в то время как Гленн вообще не знал, что значит извиняться, Гленн никогда не извинялся, хотя то и дело возникал, как мы считали, повод, чтобы он перед нами извинился. Вертхаймеру всегда было важно знать, что о нем думают люди, Гленн не придавал этому ни малейшего значения, как и я сам, мне, как и Гленну, было совершенно все равно, что так называемые окружающие думают обо мне. Вертхаймер без умолку говорил, даже когда ему нечего было сказать, говорил лишь потому, что молчание было для него опасно, а Гленн помногу молчал, как и я, я, как и Гленн, мог молчать по меньшей мере несколько дней подряд, хотя и не мог, как Гленн, молчать неделями. Один только страх не быть воспринятым всерьез делал нашего Пропащего болтливым, думал я. А возможно, он был болтливым еще и из-за того, что уже тогда, и в Вене, и в Трайхе, он почти все время проводил наедине с собой, гулял по Вене и, как он всегда говорил, никогда не разговаривал с сестрой, потому что с сестрой у него
ни разу не сложилось ни одного разговора. Его ценными бумагами распоряжались, как он их называл, наглые управляющие, которых он нанял и с которыми общался только письменно. Так что и Вертхаймер был из тех людей, кто мог подолгу, возможно, даже дольше, чем мы с Гленном, молчать, но, когда мы бывали вместе, он все время говорил, думал я. Он, живший в самом центре города по одному из лучших венских адресов, больше всего любил гулять во Флоридсдорфе, в рабочем районе, известном благодаря локомотивному заводу, в Кагране, в Кайзермюлене, где живут беднейшие из бедных, в так называемом Альзергрунде или в Оттакринге — конечно же, это извращение, думал я. Выходил на улицу через черный ход, в поношенной одежде, в костюме работяги, чтобы не бросаться в глаза во время этих вылазок, думал я. Стоя часами на Флорисдорфском мосту, он наблюдал за прохожими, смотрел на коричневую, давно уже отравленную химикатами воду Дуная, по которому по направлению к Черному морю плыли русские и югославские грузовые суда. На мосту он часто думал о том, не было ли самым большим его несчастьем родиться в богатой семье, думал я, потому что он всегда говорил, что чувствует себя во Флорисдорфе и Кагране лучше, чем в первом районе, а среди людей из Флоридсдорфа и Каграна — лучше, чем среди людей из первого района, которые, по сути, были ему всегда ненавистны. Он заходил в трактиры на Прагерштрассе и на Брюннерштрассе и заказывал себе пиво и салат из колбасы с луком и уксусом, сидел там часами и слушал людей, наблюдал за ними до тех пор, пока, так сказать, не выбивался из сил, тогда ему приходилось возвращаться домой, естественно пешком, думал я. При этом, однако, он все время говорил, что неправильно думать, будто, стань он жителем Флоридсдорфа, или жителем Каграна, или жителем Альзергрунда, он был бы счастливей, думал я, и неправильно считать, будто жители рабочих кварталов превосходят людей из первого района тем, что они лучше по характеру. При ближайшем рассмотрении, говорил он, все эти так называемые обделенные судьбой, все эти так называемые бедные и отсталые люди по сути своей точно такие же бесхарактерные и отвратительные, как и те, к которым ты принадлежишь, и только по этой причине считаешь их отвратительными. Низшие слои общества так же социально опасны, как и высшие, говорил он, они ведут себя так же мерзко, низших слоев общества надо сторониться так же, как и высших, — они другие, но ничуть не менее омерзительные, говорил он, думал я. Так называемый интеллектуал ненавидит свой интеллектуализм и верит, будто найдет спасение у так называемых бедных и обделенных людей, которых раньше называли
униженными и оскорбленными, сказал он, но там вместо спасения он находит все ту же мерзость, сказал он, думал я. После того как я сходил во Флоридсдорф или в Кагран двадцать или тридцать раз, часто говорил Вертхаймер, я осознал свою ошибку и понял, что лучше буду сидеть в «Бристоле» и брать на мушку себе подобных. Мы все время предпринимаем попытку ускользнуть от себя, но эта попытка терпит крах, мы все время позволяем бить себя по голове, потому что не хотим понять, что нам не вырваться, даже с помощью смерти. Сам-то он вырвался, думал я, и довольно-таки неприятным способом. В пятьдесят, самое позднее в пятьдесят один надо остановиться, сказал он как-то. В самом конце он воспринял себя
всерьез, думал я. Мы наблюдаем за товарищем по учебе, смотрим, как он идет по дороге знаний, думал я, заводим с ним разговор и завязываем так называемую дружбу на всю жизнь. Сперва, естественно, мы не знаем, что речь идет о так называемой дружбе на всю жизнь, ведь поначалу мы думали о ней как о дружбе по расчету, и в тот момент она нам была нужна для того, чтобы продвинуться вперед, но ведь человек, с которым мы завязываем разговор, это не какой-нибудь там встречный-поперечный, а единственно возможный в тот момент, думал я, ведь у меня были сотни возможностей заговорить с товарищами по учебе, учившимися в Моцартеуме и посещавшими тогда занятия Горовица, но я заговорил именно с Вертхаймером и то лишь потому, что мы, как он вспомнил, уже как-то раз виделись и говорили друг с другом в Вене, думал я, Вертхаймер учился главным образом в Вене, а не в Моцартеуме, как я, учился в Венской музыкальной академии, которая в Моцартеуме всегда слыла лучшей музыкальной школой, в то время как в Вене, наоборот, Моцартеум всегда считался необходимым для успешной карьеры заведением, думал я. Студенты одного института всегда ценят свой институт меньше, чем нужно бы, и с завистью посматривают на конкурирующий институт; в первую очередь студенты музыкальных учебных заведений известны тем, что ценят конкурирующий институт намного больше, и студенты Венской музыкальной академии всегда думают и уверены в том, что Моцартеум лучше, и, наоборот, студенты Моцартеума думают обычно, что лучше Венская музыкальная академия. По сути, преподаватели в Венской музыкальной академии не хуже и не лучше преподавателей Моцартеума, думал я, только от студента зависит, сможет ли он с максимальной беспощадностью использовать этих преподавателей в своих целях. От достоинств наших преподавателей ничего не зависит, думал я, все зависит от нас самих, ведь в конце концов и плохие учителя часто воспитывают гениев, как и, наоборот, случается так, что хорошие учителя гениев уничтожают, думал я. У Горовица была самая лучшая репутация, мы последовали за этой репутацией, думал я. Но мы не имели ни малейшего представления о Гленне Гульде, о том, чем он станет для нас. Гленн Гульд был товарищем по учебе, как любой другой, поначалу казался лишь обладателем странных привычек, а в итоге, как оказалось, — имел огромный талант, какого больше не будет в этом столетии, думал я. Для меня посещение класса Горовица не было катастрофой, какой оно стало для Вертхаймера, Вертхаймер был слаб для Гленна. С этой точки зрения Вертхаймер, записавшись на курс Горовица, попал в
жизненную ловушку, думал я. Ловушка захлопнулась, когда он в первый раз услышал, как играет Гленн, думал я. Из этой ловушки Вертхаймер уже не смог выбраться. Вертхаймеру надо было остаться в Вене и продолжить учиться в Венской музыкальной академии, думал я, слово «Горовиц» уничтожило его, думал я, а косвенным образом и
представление о Горовице, даже если на самом деле его уничтожил Гленн. Когда мы были в Америке, я сказал Гленну, что он уничтожил Вертхаймера, но Гленн совершенно не понял, что я имел в виду. Я больше не надоедал ему этой мыслью. Вертхаймер неохотно отправился со мной в Америку, в дороге он постоянно нудил, что, по сути, ненавидит художников, перешедших, как дословно сказал Вертхаймер, все границы своего артистизма, уничтожающих свою личность ради того, чтобы стать гениями, как выразился тогда Вертхаймер. В конце концов такие люди, как Гленн, превращаются в
машины, производящие искусство, не имеют больше ничего общего с человеком и лишь изредка похожи на людей, думал я. Однако Вертхаймер постоянно завидовал тому, что Гленн оставался в искусстве, а еще сильней завидовал его артистизму, он был не в состоянии без зависти восхищаться, если не сказать — изумляться этому; вот я никогда ничем не восхищался, к этому у меня не было и нет никаких задатков, хотя за свою жизнь я многому изумлялся, и больше всего, если можно так выразиться, в своей жизни, которая, возможно, все же заслужила право называться жизнью художника, я изумлялся Гленну, я с изумлением наблюдал за его становлением, с изумлением встречался с ним каждый раз и с изумлением воспринимал его, так сказать, интерпретации, думал я. Я всегда открыто выражал свое изумление, никто и никогда не смог бы ограничить, стеснить меня в моем изумлении, думал я. Такой способности никогда не было у Вертхаймера ни при каких условиях, он с радостью стал бы Гленном Гульдом, он хотел быть Гленном Гульдом, а я всегда хотел быть только самим собой; Вертхаймер же всегда принадлежал к тем людям, кто постоянно, всю жизнь, до бесконечного отчаяния, хотят быть другими — удачливыми в жизни, как, должно быть, они все время думают, думал я. Вертхаймер хотел стать Гленном Гульдом, хотел стать Горовицем, возможно, он хотел стать Густавом Малером или Альбаном Бергом. Вертхаймер был не в состоянии воспринимать себя
как неповторимую личность, а это и может, и должен делать каждый, кто не намерен отчаиваться, — все равно, что он за человек, он всегда неповторим, все время повторял я себе и таким образом спасся. Такой спасательный круг — рассматривать себя как неповторимого — Вертхаймер в расчет не принимал, для этого у него не было никаких задатков. Каждый человек неповторим, а взятый сам по себе, он на самом деле есть величайшее произведение искусства всех времен, так я думал и имел право думать так всегда, думал я. У Вертхаймера не было такой возможности, он всегда хотел быть Гленном Гульдом, а еще лучшее — Густавом Малером или Моцартом и компанией, думал я. Это все — причем очень рано и насовсем — погрузило его в несчастье. Не нужно быть гением, чтобы быть неповторимой личностью, и не нужно гениальности, чтобы это осознать, думал я. Вертхаймер же всегда был только
подражателем , он подражал всем, про кого думал, что они более успешны, нежели он, и, хотя у него, как я теперь вижу, не было для этого никаких задатков, думал я, он непременно хотел стать артистом и потому шел навстречу катастрофе. Отсюда — его беспокойство, его длительное
настойчивое хождение, бег, невозможность спокойно сидеть на месте, думал я. И свое несчастье он вымещал на сестре, которую мучал десятилетиями, думал я, запер ее в своей голове, чтобы, как я думал, никогда ее оттуда не выпускать. Однажды мы с ним вместе выступали на одном из так называемых
концертных вечеров, эти вечера по большей части проводятся в так называемом "Венском зале", чтобы студенты, как говорится, привыкали к концертной жизни, — мы исполняли
Брамса в четыре руки. На протяжении всего концерта Вертхаймер хотел выделиться и тем самым нанес основательный вред концерту. Испортил его совершенно сознательно, как я вижу сегодня. После концерта он сказал мне
извини — одно только слово, что для него было характерно. Он был неспособен к игре в ансамбле, он хотел, как говорится,
блистать , и так как у него, что естественно, это не получалось, то он испортил концерт, думал я. На протяжении всей своей жизни Вертхаймер все время хотел выделиться, чего ему сделать так и не удалось, ни в чем, ни при каких обстоятельствах. Поэтому-то он и был обречен на самоубийство, думал я. Гленну-то не нужно было кончать с собой, думал я, ведь Гленну никогда не нужно было выделяться, он и так выделялся всегда и везде, при любых обстоятельствах. Вертхаймер хотел выделиться, не имея к тому никаких задатков, думал я, а у Гленна для всего были все задатки. Себя я здесь в расчет не беру, однако о себе могу сказать, что у меня всегда были задатки для всего, чего угодно, но эти задатки я, в основном вполне сознательно, не использовал из-за собственной инертности, высокомерия, лени, пресыщения, думал я. А вот у Вертхаймера, за что бы он ни брался, как говорится, ни за что ни про что не было никаких задатков. Зато у него имелись все задатки для того, чтобы быть несчастным человеком. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Вертхаймер, а не Гленн и не я, покончил с собой, хотя Вертхаймер все время пророчил самоубийство
мне , впрочем, как и многие другие, все время дававшие мне понять, что
они уверены: я покончу с собой. Вертхаймер на самом деле играл на рояле намного лучше всех остальных в Моцартеуме, об этом важно сказать, но после того, как он услышал Гленна, этого ему уже было мало. Играть так, как Вертхаймер, получается у всех, кто ставит перед собой цель стать знаменитым, овладеть исполнительским мастерством, для этого всего лишь нужны неизбежные десятилетия работы за инструментом, думал я, но когда эти люди вдруг встречают на своем пути какого-нибудь Гленна Гульда и слышат, как
такой вот Гленн Гульд играет, то они, если они похожи на Вертхаймера, погибли, думал я. Похороны Вертхаймера не заняли и получаса. Сперва я хотел надеть на его похороны так называемый траурный костюм, но потом все же решил пойти на похороны в дорожной одежде, мне показалось смешным подчиняться предписаниям похоронного этикета, который я всегда ненавидел, как и все связанные с одеждой предписания этикета, поэтому я пошел на похороны в том же, в чем приехал в Кур, в своем повседневном костюме. Сначала я думал, что пойду на кладбище Кура пешком, но потом все-таки поймал такси и попросил, чтобы меня высадили у главных ворот. Телеграмму сестры Вертхаймера, которую теперь зовут Дутвайлер, я предусмотрительно положил в карман, потому что там было указано точное время похорон. Должно быть, речь идет о несчастном случае, возможно, в Куре Вертхаймер попал под автомобиль, подумал я, ведь ни о каких хронических и опасных для жизни болезнях Вертхаймера я не знал, я думал о всевозможных несчастных случаях, но в первую очередь о несчастных случаях на дороге, так как сегодня они случаются каждый день; мысль, что он мог покончить с собой, даже в голову мне не приходила. А ведь именно эта мысль, как я теперь понимаю, думал я, напрашивалась в первую очередь. Меня удивило, что Дутвайлер послала телеграмму на мой венский адрес, а не в Мадрид, потому что откуда же сестре Вертхаймера было знать, что я нахожусь в Вене, а не в Мадриде, думал я. Мне и сейчас непонятно, как она узнала, что меня можно застать в Вене, а не в Мадриде, думал я. Вероятно, она связывалась с братом незадолго до его самоубийства, думал я. Разумеется, я бы приехал в Кур и из Мадрида, думал я, пускай это было бы и потрудней. Хотя нет, думал я, добираться до Кура из Цюриха нетрудно. Я в очередной раз показывал очередным покупателям венскую квартиру, вот уже несколько лет я хочу ее продать, но не могу найти подходящего покупателя; тех, кто в этот раз ее смотрел, я тоже не беру в расчет. Они либо не готовы заплатить требуемую цену, либо отказываются по каким-нибудь другим причинам. Я намеревался продать свою венскую квартиру
как она есть, то есть со всем, что в ней находилось, и поэтому покупатели должны были меня устраивать, но никто из них, как говорится, мне не приглянулся. Кроме того, я подумал, разве не глупо именно
сейчас, в такие трудные времена расставаться с венской квартирой, отказываться от нее в пору абсолютной неопределенности. Сейчас ведь никто ничего не продает, если его к этому не вынуждают, думал я, а меня, конечно же, продавать квартиру никто не вынуждал. У меня есть Дессельбрун, всегда думал я, венская квартира мне не нужна, и потом, ведь я живу в Мадриде и не намереваюсь возвращаться в Вену, никогда не вернусь, всегда думал я, но, когда видел ужасные лица всех этих покупателей, они просто-таки выбивали из моей головы все мысли о том, чтобы продать венскую квартиру. В конце концов, думал я, Дессельбруна ведь надолго не хватит, одной ногой в Вене, другой в Дессельбруне ведь лучше, чем в одном Дессельбруне — и я подумал, что в Дессельбрун я, по сути, больше никогда не вернусь, но и дом в Дессельбруне тоже продавать не буду. Я не стану продавать квартиру в Вене и Дессельбрун тоже не стану продавать, я оставлю себе и венскую квартиру, на которую уже давно махнул рукой, и Дессельбрун, на который тоже махнул рукой, но продавать ни Вены, ни Дессельбруна не буду, думал я, мне-то это не нужно. Если быть честным, то на самом деле у меня хватает средств, чтобы жить в достатке, вообще не продавая ни Дессельбруна, ни Вены. Продам — дураком буду, думал я. Так что оставлю себе и Вену, и Дессельбрун, и даже если я никогда не буду жить ни в Вене, ни в Дессельбруне, думал я, у меня в запасе всегда будут и Вена, и Дессельбрун, и моя независимость таким образом будет независимостью еще в большей степени, чем в том случае, если бы у меня не было Вены или Дессельбруна, или если бы не было
и Вены,
и Дессельбруна. На пять часов утра назначают похороны, которые ни в коем случае не должны привлекать к себе внимание, думал я, — с похоронами Вертхаймера и Дутвайлеры, и администрация кладбища города Кура не хотели лишнего шума. Сестра Вертхаймера несколько раз повторила, что в случае похорон ее брата речь идет
о временных похоронах, она намеревается когда-нибудь
перевезти брата в Вену, чтобы похоронить его в фамильной могиле на Дёблингском кладбище. Сейчас о переносе тела ее брата и речи не идет, но почему, она так и не сказала, думал я. Фамильный склеп Вертхаймеров был одним из самых больших на кладбище в Дёблинге, думал я. Может быть,
осенью , сказала сестра Вертхаймера, по мужу Дутвайлер, думал я. Господин Дутвайлер был во фраке, думал я, и под руку вел сестру Вертхаймера к могиле, вырытой на другом конце кладбища, почти на границе с Мюльбергом. Так как никто ничего не говорил, а могильщики опустили гроб с Вертхаймером в яму с невероятной ловкостью и необычайной быстротой, то похороны заняли не больше двадцати минут. Одетый во все черное господин, очевидно служащий похоронного бюро, — наверняка он был и владельцем похоронного предприятия, думал я, — хотел было что-то сказать, но Дутвайлер оборвал его раньше, чем тот успел начать. Сам я не смог купить цветы, я никогда в жизни этого не делал, Дутвайлеры тоже пришли без цветов, что выглядело еще более удручающе; вероятно, думал я, сестра Вертхаймера посчитала, что цветы на похоронах ее брата неуместны, она права, думал я, хотя похороны без цветов, конечно же, произвели на всех присутствующих ужасное впечатление. Господин Дутвайлер прямо у открытой могилы вручил каждому могильщику по две купюры, это выглядело отвратительно, но вполне соответствовало тому, как проходили эти похороны. Сестра Вертхаймера смотрела в могильную яму, ее муж не смотрел, я тоже не стал смотреть. К выходу я шел вслед за супругами Дутвайлер. У ворот они повернулись ко мне и пригласили на обед, я не принял их приглашения. Конечно же, это было неправильно, думал я теперь в гостинице. Возможно, у них, в особенности у сестры Вертхаймера, я бы смог разузнать что-нибудь полезное, думал я, а так я попрощался и вдруг оказался один. Кур меня больше не интересовал, и я отправился на вокзал и сел в первый же поезд на Вену. Совершенно естественно, что после похорон мы потом еще долгое время постоянно думаем о покойном, особенно если покойный был нашим близким, да к тому же самым близким другом, с которым мы были связаны десятилетиями, ведь так называемый однокашник — это всегда самый особенный наш спутник по жизни и существованию, ведь он, так сказать,
архи свидетель наших жизненных обстоятельств, думал я, минуя Букс и лихтенштейнскую границу, и все мои мысли были заняты не кем иным, как Вертхаймером. У него с рождения было действительно огромное состояние, но он не знал, что с этим состоянием делать, всю жизнь это состояние приносило ему несчастье, думал я. Его родители не смогли, как говорится, открыть ему глаза, они подавляли его еще тогда, когда он был ребенком, думал я.
У меня было тягостное детство, всегда говорил Вертхаймер,
у меня была тягостная юность, говорил он,
тягостные студенческие годы, подавлявший меня отец, подавлявшая меня мать, подавлявшие меня учителя, постоянно подавлявшее меня окружение. Они (его родители и воспитатели) оскорбляли его лучшие чувства и пренебрегали его умом, думал я. У него никогда не было дома, думал я, по-прежнему стоя в холле, так как родители не дали ему дома, потому что не были в состоянии дать ему дом. Он всегда отзывался о своей семье так, как никто другой, потому что его родня не была для него семьей. В итоге он никого не ненавидел так сильно, как своих родителей, их он называл не иначе как губителями и уничтожителями. После смерти родителей — их автомобиль сорвался в ущелье недалеко от Бриксена — у него кроме сестры больше никого не осталось, ведь всех остальных, включая и меня, он выкинул из головы и полностью завладел сестрой, думал я, причем завладел самым бессовестным образом. Он без конца что-то требовал, но ничего не давал взамен, думал я. Он снова и снова приходил на флоридсдорфский мост, чтобы броситься в реку, но на самом деле не собирался никуда бросаться; он учился музыке, но так и не стал пианистом-виртуозом, и, наконец, он, как он все время говорил, ушел с головой в гуманитарные науки, не имея ни малейшего представления о том, что такое гуманитарные науки, думал я. С одной стороны, он переоценивал свои возможности, а с другой — недооценивал их, думал я. Я думал о том, что и от меня он требовал больше, чем мне давал, думал я. Думал, что его претензии ко мне, как и к другим, всегда были завышенными, о том, что его требованиям нельзя было соответствовать, и от этого он становился все несчастней. Вертхаймер был рожден несчастливым человеком, он знал это, однако, как и все несчастные люди, он не хотел признаваться себе в том, что он, как сам считал,
должен быть несчастным, а другие — нет; это удручало его, он уже не мог больше выкарабкаться из отчаяния.
Гленн — счастливый человек, я — несчастный, часто повторял он, на это я ему отвечал: нельзя сказать, что Гленн счастлив, в то время как он, Вертхаймер, на самом деле несчастен. Если мы скажем, что тот или иной человек несчастен, то это всегда будет верно, думал я, в то время как если мы скажем, что тот или иной человек счастлив, то это никогда не будет соответствовать действительности. С точки зрения Вертхаймера же Гленн Гульд всегда был счастливым человеком, как, насколько мне известно, и я; ведь он часто и много говорил мне об этом, думал я, он вменял мне в вину, что я счастлив — или по меньшей мере более счастлив, чем он, по большей части считавший себя самым несчастным из несчастнейших. Я думал, что Вертхаймер
сделал все для того, чтобы быть несчастным, быть тем несчастным человеком, о котором он всегда говорил, ведь вне всяких сомнений его родители постоянно пытались сделать своего сына счастливым, но Вертхаймер всегда отталкивал их от себя, как всегда отталкивал от себя и сестру, когда она пыталась сделать его счастливым. Как и любой человек, Вертхаймер не был все время несчастным, хотя он сам и думал, что несчастье завладело им целиком. Я припоминаю, что именно во время учебы у Горовица он был счастлив, гулял со мной (и с Гленном!), и эти прогулки делали его счастливым, и даже свое одиночество в Леопольдскроне он мог сделать счастливым, что доказывают мои наблюдения, думал я, но на самом деле все закончилось, когда он в первый раз услышал Гленна, играющего «Гольдберг-вариации», которые Вертхаймер, насколько я знаю, после этого больше никогда не решался играть. Сам-то я довольно рано и еще до Гленна пытался играть «Гольдберг-вариации», я никогда не испытывал перед ними робости, в отличие от Вертхаймера, который откладывал «Гольдберг-вариации», так сказать, напоследок, думал я, я-то никогда не испытывал малодушия перед лицом такого грандиозного произведения, как «Гольдберг-вариации», не допускал такого малодушия, не задумывался о том, что играть их будет наглостью, вообще никогда ни о чем таком не думал, поэтому я просто начал их разучивать, причем
отваживался их играть еще за долгие годы до занятий с Горовицем — конечно же, наизусть и не хуже наших самых известных пианистов, но, что естественно, не так, как бы хотелось мне самому. Вертхаймер всегда был робким и по одной только этой веской причине уже не подходил для карьеры виртуозного исполнителя, да к тому же на рояле, от такого ведь в первую очередь требуются решительность и бесстрашие перед всеми и каждым, думал я. Виртуоз, к тому же мирового уровня, вообще ничего не должен бояться, думал я, и не важно при этом, что он за виртуоз. Страх Вертхаймера всегда был заметен, он никогда не мог хоть сколько-то скрыть его. Его плану было предначертано однажды закончиться крахом, думал я, он и закончился крахом, но даже этот крах его замысла стать артистом был не его личным крахом, он был спровоцирован моим решением окончательно расстаться со «Стейнвеем» и карьерой виртуоза, думал я. Я думал, что он перенимал у меня все или почти все, даже то, что ему не подходило, многое из того, что должно было принести пользу мне, но было вредным для него, думал я. Подражатель подражал мне во всем, даже тогда, когда то, чему он подражал, было совершенно очевидно направлено против него, думал я. Я всегда был вреден для Вертхаймера, думал я, — и этот упрек самому себе я, пока жив, не смогу выкинуть из головы, думал я. Вертхаймер был несамостоятельным, думал я. В чем-то более чутким, чем я, в этом, однако, была его большая ошибка, в конце концов он был наделен только
ложными чувствами — и в самом деле
Пропащий , думал я. Так как он не отваживался подсмотреть важные для него детали у Гленна, он все подсматривал их у меня, но ему это не помогало, ведь у меня он не мог подсмотреть ничего такого, что могло бы ему пригодиться, он видел лишь то, что для него не годилось, этого он, однако, не хотел признавать, хотя я все время предупреждал его, думал я. Если бы он стал коммерсантом и со временем — управляющим империей своих родителей, он был бы счастлив, по-своему счастлив, но он не отваживался на это решиться, надо было сделать
небольшой разворот, о котором я часто ему говорил, но он его не сделал. Он хотел быть артистом, быть
артистом жизни для него было недостаточно, хотя именно это понятие заключает в себе все, что делает нас счастливыми, если мы прозорливы, думал я. В конце концов он полюбил свое поражение, если не сказать, что он увлекся им до безумия, думал я, и упрямо настаивал на своем поражении до самого конца. На самом деле я бы мог, конечно, сказать, что, хотя он и был несчастен в своем несчастье, еще более несчастным он бы стал, если бы вдруг потерял свое несчастье, если бы у него в одночасье отняли его несчастье, и это опять же является доказательством того, что, по сути, он в общем-то был не несчастным, а счастливым, и все благодаря своему несчастью и с его помощью, думал я. Конечно, очень многие, особенно те, кто глубоко увяз в несчастье, по сути, счастливы, подумал я и сказал себе, что Вертхаймер, вероятно, на самом деле был счастлив, ведь он всегда осознавал свое несчастье и мог своим несчастьем наслаждаться. Мысль, что можно подумать, будто Вертхаймер по какой-нибудь неизвестной мне причине боялся лишиться своего несчастья и поэтому поехал в Кур и в Цицерс и там покончил с собой, сразу же перестала казаться мне абсурдной. Вполне возможно, нам следует исходить из того, что вообще никаких так называемых несчастных людей не существует, думал я, ведь большинство из них мы, конечно, сами делаем несчастными — тогда, когда забираем у них
их несчастье. Вертхаймер боялся потерять
свое несчастье и исключительно по этой причине покончил с собой, думал я, с помощью хитроумной уловки он освободился от мира, так сказать, сдержал обещание, в которое уже никто не верил, думал я, освободился от мира, который на самом-то деле хочет сделать и его, и миллионы его товарищей по несчастью только счастливей, чему он, с величайшей беспощадностью по отношению к себе и ко всем остальным, сумел помешать, так как он вместе со своими товарищами по несчастью самым смертельным образом привязался к своему несчастью, как ни к чему другому. По окончании учебы у Вертхаймера была возможность давать концерты, но он отказывался, думал я, не принимал предложений из-за Гленна, он не мог играть перед публикой,
одна лишь мысль о том, что нужно взойти на подиум, вызывает у меня тошноту, сказал он, думал я. Он получал множество приглашений, думал я, но отклонял их, он мог поехать в Италию, Венгрию, Чехословакию, Германию, ведь у агентов, как говорится, он заслужил себе хорошую репутацию, причем исключительно благодаря музыкальным вечерам в Моцартеуме. Однако он впал в уныние из-за того, что Гленн праздновал триумфы своими «Гольдберг-вариациями».
Читать дальше