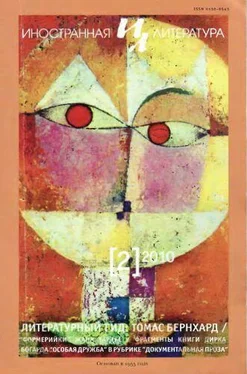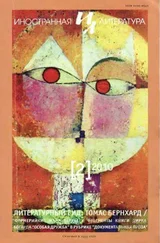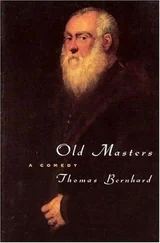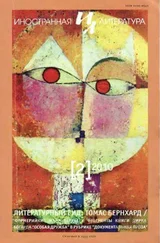самым постыдным образом, как часто говаривал мой отец. Правда, меня обстоятельства крушения собственной артистической карьеры угнетали не так сильно, как Вертхаймера, до конца жизни страдавшего от того, что ему пришлось бросить музыку и посвятить себя гуманитарным наукам, хотя и в конце жизни он не имел ни малейшего представления о том, что это такое, — впрочем, и я до сих пор не знаю, что представляют собой философские материи и философия вообще. Гленн — триумфатор, а мы неудачники, думал я в гостинице. Гленн закончил свое существование в единственно правильный момент, думал я. И ведь не сам он прекратил свое существование, он-то не наложил на себя руки, в отличие от Вертхаймера, которому ничего не оставалось, как повеситься, думал я. И смерть Гленна, и смерть Вертхаймера можно было предвидеть. Говорят, удар случился с Гленном, когда он исполнял «Гольдберг-вариации». Вертхаймер не перенес кончины Гленна. После смерти Гленна он стыдился жить, ему было стыдно оттого, что он, так сказать, пережил гения, насколько я знаю, весь последний год это причиняло ему невыносимые мучения. Через два дня после того, как мы узнали из газеты, что Гленн умер, мы получили телеграмму от его отца, в которой тот сообщал нам о смерти сына. Стоило ему сесть за рояль, он весь словно уходил в себя, думал я, и выглядел как дикий зверь, а если присмотреться — то как калека, но, если присмотреться как следует — как утонченный и прекрасный человек, каким он и был. У своей бабки по материнской линии он, Гленн, выучился немецкому языку, на котором, как я уже намекал, говорил весьма бегло. Его произношение кололо глаза всем нашим австрийским и немецким сокурсникам, которые разговаривали на абсолютно запущенном немецком языке и разговаривали на этом абсолютно запущенном немецком языке с рождения, потому что не чувствовали собственного языка. Артист обязан чувствовать родной язык! — часто говорил Гленн. Из года в год он носил одинаковые, а то и одни и те же брюки, походка у него была легкая, как сказал бы мой отец — благородная. Он любил четкие определения и ненавидел приблизительность. Его любимым словом было слово
самодисциплина, он произносил его постоянно, даже, насколько я помню, во время занятий у Горовица. Больше всего он любил гулять по улицам за полночь, в любом случае, ему непременно надо было уйти из дома, я подметил это еще в Леопольдскроне. Нам следует подпитываться свежим воздухом, говорил он, иначе нам не продвинуться, иначе мы застопоримся в своем намерении достичь заоблачных вершин. Он был беспощаднейшим человеком по отношению к самому себе. Он не позволял себе никаких неточностей. Он всегда хорошо обдумывал то, что говорил. Он презирал людей, говоривших необдуманные слова, стало быть, он презирал практически все человечество. От человечества, вызывавшего в нем только презрение, он в итоге изолировал себя на целых двадцать лет. Он был единственным выдающимся пианистом-витруозом, презиравшим публику и, по сути, навсегда изолировавшим себя от презренной публики. Она была ему не нужна. Он купил себе дом в лесу, устроился в нем и занялся самосовершенствованием. Он — с Бахом — прожил в этом доме в Америке до самой смерти. Он был фанатиком порядка. Повсюду в доме был порядок. Когда мы с Вертхаймером в первый раз переступили порог его дома, я еще больше стал задумываться о его, Гленна,
представлении о самодисциплине. После того как мы вошли в его дом, он не спросил нас, например, не хотим ли мы чего-нибудь выпить, а сел за «Стейнвей» и сыграл нам те фрагменты из «Гольдберг-вариаций», которые играл нам в Леопольдскроне за день до своего отъезда в Канаду. Игра его была такой же совершенной, как и тогда. Я сразу понял: так, как он, не играет никто на свете. Он сгорбился и начал играть. Он играл, так сказать, снизу вверх, а не сверху вниз, как другие. В этом была его тайна. Многие годы я мучился вопросом, стоило ли навещать его в Америке. Ужасный вопрос. Вертхаймер поначалу не хотел, но, должно быть, я в конце концов уговорил его. Сестра Вертхаймера была против того, чтобы ее брат навестил всемирно известного, опасного для него, как она считала, Гленна Гульда. В конце концов Вертхаймер сломил сопротивление сестры и поехал со мной в Америку к Гленну. Я все время говорил себе, что это последняя возможность увидеть Гленна. Я на самом деле ждал его смерти и непременно хотел повидать его еще раз, послушать его игру, думал я, стоя в гостинице и вдыхая тяжелые гостиничные запахи, давно мне знакомые. Я хорошо знал Ванкхам. Когда я приезжал к Вертхаймеру, я всегда останавливался в этой гостинице в Ванкхаме, потому что не мог ночевать у Вертхаймера, он не переносил гостей, просившихся к нему на ночлег. Я осмотрелся по сторонам в поисках хозяйки, но ее не было видно. Вертхаймер ненавидел тех, кто просился у него переночевать, боялся их. Любых гостей, все равно каких, он встречал и тут же выпроваживал, стоило им переступить порог дома, не то чтобы и меня он тоже сразу выпроваживал, я был близким другом, но он все-таки предпочитал, чтобы через пару часов я исчез, а не остался у него ночевать. Я ни разу не переночевал у него, мне и в голову это не приходило, думал я, высматривая хозяйку. Гленн был жителем мегаполиса, как и я сам, как и Вертхаймер, мы, по сути, любили все городское и ненавидели деревню, которой пользовались (как по-своему пользуется ею и мегаполис) на полную катушку. Вертхаймер и Гленн поселились в деревне из-за больных легких, Вертхаймер — с еще меньшей охотой, нежели Гленн; Гленн — в конечном счете потому, что больше вообще не мог выносить человечество, Вертхаймер — из-за непрекращавшихся приступов кашля и потому, что его терапевт сказал: в мегаполисе у него нет никаких шансов выжить. Больше двадцати лет Вертхаймер обретался у своей сестры на Кольмаркте, в одной из самых просторных и роскошных венских квартир. В конце концов его сестра вышла замуж за одного, так сказать, крупного промышленника из Швейцарии и переехала к мужу в Цицерс под Куром. Именно в Швейцарию и именно за владельца химического концерна, как однажды при мне выразился Вертхаймер. Жуткое сочетание. Она бросила меня на произвол судьбы, все время жаловался Вертхаймер. В неожиданно опустевшей квартире он чувствовал себя словно парализованный, дни напролет после отъезда сестры сидел без движения в кресле, а потом словно безумный начал метаться по комнатам, туда-сюда, и в конце концов переехал в отцовский охотничий дом в Трайхе. После смерти родителей он двадцать лет жил бок о бок с сестрой и, насколько мне известно, все это время ее тиранил, годами запрещал ей любые контакты с мужчинами и вообще с миром, прятал ее от всех, приковал к себе накрепко, так сказать, железной цепью. Она все же вырвалась на свободу и оставила его наедине со старой разваливающейся мебелью, которая досталась им от родителей. Как она могла так поступить со мной, говорил он мне, думал я. Я делал для нее все, что только мог, ради нее я пожертвовал собой, а она просто-напросто меня оставила, побежала за этим нуворишем из Швейцарии, за этим жутким типом, говорил Вертхаймер, думал я в гостинице. Да еще в Кур, в эту жуткую местность, в это вонючее логово католицизма. Цицерс, какое омерзительное название! — воскликнул он и спросил, бывал ли я когда-нибудь в Цицерсе, и я вспомнил, что каждый раз проезжал Цицерс по пути в Санкт-Мориц, подумал я. Идиотизм, монастыри и химические концерны, и ничего больше, говорил он. Он частенько заговаривался настолько, что начинал утверждать, будто бросил карьеру виртуозного пианиста ради сестры,
я ради нее поставил крест, принес свою карьеру ей в жертву, говорил он, я пожертвовал всем, что составляло смысл моей жизни. Так вот, с помощью лжи он пытался выкарабкаться из своего отчаяния, думал я. Квартира на Кольмаркте занимала три этажа и была набита всевозможным антиквариатом, это нагоняло на меня тоску каждый раз, когда я навещал друга. Он сам утверждал, что ненавидит все это старье, которое понатащила сюда его сестра, он это все ненавидит, не имеет к этому никакого отношения; он вообще переложил все свои неудачи на сестру, которая бросила его на произвол судьбы ради швейцарца, вообразившего о себе невесть что. Однажды он совершенно серьезно сказал мне, что может себе представить, как состарится в этой квартире на Кольмаркте вместе с сестрой,
я состарюсь вместе с ней, в этих комнатах, сказал он мне однажды. Все вышло иначе, сестра стала ему чужой, сбежала, отвернулась от него, возможно, в самый-самый последний момент, думал я. Лишь месяцы спустя после свадьбы сестры он снова начал выходить на улицу, из сидня, так сказать, снова стал пешеходом. В свои лучшие годы он ходил пешком от Кольмаркта до двадцатого района, а оттуда — до двадцать первого, оттуда — до Леопольдштадта, затем возвращался в первый район и часами гулял там до изнеможения. В деревне же он был словно парализованный. Не мог сделать и двух шагов по направлению к лесу. В деревне мне скучно, говорил он все время. Гленн был прав, когда называл меня
асфальтовым пешеходом, говорил Вертхаймер,
я могу ходить только по асфальту, я не могу ходить по земле, хождение по земле утомляет меня, и я не выхожу из своей хижины. Хижиной он называл доставшийся ему по наследству от родителей охотничий дом, в котором было четырнадцать комнат. В охотничьем доме он вставал спозаранку и одевался, будто собирался пройти пятьдесят или шестьдесят километров: надевал высокие ботинки с кожаными шнурками, накидку из грубой шерстяной ткани и войлочную шапочку. Выходил он, правда, только для того, чтобы констатировать, что у него нет ни малейшего желания гулять, и тогда он возвращался, раздевался, присаживался где-нибудь в комнате внизу и сидел, уставившись в стену. Терапевт сказал, что в городе у меня нет шансов, говорил он, но здесь-то у меня вообще нет ни малейшего шанса. Я ненавижу деревню. С другой стороны, я намереваюсь следовать предписаниям терапевта, чтобы потом себя ни в чем не винить. Но выходить из дому, да и вообще ходить по земле я не могу. Мне это кажется в высшей степени бессмысленным, я не могу допустить такой бессмыслицы, это преступное безумие. Обычно я одеваюсь, говорил он, выхожу на крыльцо, поворачиваю обратно и раздеваюсь — какое бы ни было на дворе время года, каждый раз повторяется все то же. По крайней мере никто не видит моего сумасшествия, говорил он, думал я в гостинице. Как и Гленн, Вертхаймер не выносил, когда рядом с ним были люди. И со временем он сам стал невыносим. Но ведь и я, думал я, стоя в гостинице, не смог бы жить в деревне, поэтому, разумеется, я и живу в Мадриде, и даже не думаю уезжать из Мадрида, самого замечательного города на свете, где у меня есть все, что только пожелаешь. Деревенский житель со временем тупеет и даже не замечает этого, какое-то время он думает, что жить в деревне — это оригинально и полезно для здоровья, но сельская жизнь совершенно не оригинальна, даже наоборот, это совершеннейшая безвкусица для любого, кто не рожден в деревне и для деревни, кроме того, деревня крайне вредна для здоровья. Люди, уезжающие жить в деревню, там погибают или по меньшей мере ведут нелепое существование, которое сначала приводит к отупению, а потом — к нелепой смерти. Посоветовать городскому жителю уехать в деревню, чтобы спасти свою жизнь, — это происки терапевтов, думал я. Все эти примеры с людьми, которые переехали из большого города в деревню, чтобы жить там лучше и прожить дольше, — страшные примеры, думал я. Правда, Вертхаймер в конце концов пал жертвой не столько терапевтов, сколько собственной убежденности в том, что сестра должна жить ради него. Он и в самом деле не раз совершенно серьезно говорил мне, что сестра рождена для него, чтобы она всегда была рядом с ним, чтобы, так сказать, оберегала его. Ни в ком я не разочаровался так сильно, как в собственной сестре! — воскликнул он однажды, думал я. Он смертельно привязался к своей сестре, думал я. В тот день, когда сестра его бросила, он поклялся, что будет ненавидеть ее вечно, и наглухо задернул все шторы в квартире на Кольмаркте, чтобы больше никогда их не открывать. Как бы то ни было, своему намерению он следовал целых две недели, на четырнадцатый же день распахнул шторы и, будто помешанный, бросился на улицу, изголодавшись по пище и людям. Пропащий, насколько я знаю, добежал лишь до Грабена, и там у него иссякли силы. Он должен благодарить судьбу, что его увидел кто-то из родственников, проходивших мимо, и привел обратно в квартиру, думал я, а иначе его отвезли бы в сумасшедший дом в Штайнхофе, ведь он был похож на сумасшедшего. Не у Гленна, а у Вертхаймера был самый тяжелый характер. Гленн был сильным, Вертхаймер был нашим слабаком. Не Гленн, как без конца твердят и на чем все настаивают, был сумасшедшим — сумасшедшим, и на этом настаиваю я, был Вертхаймер. Двадцать лет он приковывал к себе сестру тысячами, сотнями тысяч цепей, но она вырвалась из плена и даже, я думаю, удачно, как говорится, выскочила замуж. Богатая по происхождению сестра вышла замуж за
сказочно богатого швейцарца. Ни слова о сестре, ни слова о Куре, сказал Вертхаймер, когда я видел его в последний раз, он больше слышать не может. За все время она даже открытки мне не прислала, говорил он, думал я в гостинице, озираясь по сторонам. Она ушла от него тайком и оставила в квартире все как было, она вообще ничего не взяла, повторял он все время. А ведь она обещала, что никогда не оставит меня, никогда, так он говорил, думал я. Моя сестра к тому же еще и
преступница, сообщил он, — глубоко верующая, безнадежная католичка, сказал он. Все они таковы, эти глубоко религиозные, глубоко католические люди, они преступники, говорил он, совершенно ничего не боятся и готовы пойти на самые чудовищные преступления, они бросают на произвол судьбы родных братьев и бросаются на шею какому-то неизвестно откуда взявшемуся сомнительному типу, который лишь по случайности и только потому, что у него нет совести, смог разжиться деньгами, так говорил Вертхаймер, когда я в последний раз навещал его, думал я. Я будто вижу его перед собой и отчетливо слышу, как он это говорит, рублеными фразами, которые он всегда употреблял и которые полностью ему соответствовали.
Наш Пропащий — фанатичный человек, сказал однажды Гленн,
он чуть не умирает от жалости к самому себе, я все еще вижу, как Гленн произносит эти слова, слышу, как он это говорит, это было на Монашьей горе, на так называемой Судейской вершине, где я частенько бывал с Гленном, но без Вертхаймера, потому что Вертхаймер по той или иной причине хотел побыть один, без нас, обидевшись на весь мир. Я всегда называл его
Обиженным. После отъезда сестры он то и дело уединялся в Трайхе, потому что, говорил он, мне ненавистен Трайх, вот поэтому он в Трайх и отправлялся. В квартире на Кольмаркте скапливалась пыль, ведь он никому не разрешал приходить в квартиру в его отсутствие. В Трайхе он целыми днями просиживал в доме, только просил лесоруба принести ему кувшин молока, масла, хлеба, копченого мяса и читал своих философов — Шопенгауэра, Канта, Спинозу. И в Трайхе, когда он там бывал, почти всегда были задернуты шторы. Однажды я подумал, что снова куплю себе «Бёзендорфер», сказал он, но потом выкинул эту мысль из головы, это было бы безумием. Между прочим, я не притрагивался к инструменту уже пятнадцать лет, говорил он, подумал я в гостинице, так и не решив, позвать мне кого-нибудь или нет. Огромным заблуждением было думать, что я смогу быть артистом, жить как артист. Но и уйти с головой в гуманитарные науки я бы тоже сразу не смог, я непременно должен был идти в обход, через артистичность, сказал он. Неужели ты веришь в то, что из меня вышел бы великий пианист-виртуоз? — спросил он и, естественно, не дождавшись ответа, фыркнул:
да никогда! Из тебя — наверняка, а из меня — нет. У тебя для этого было всё, сказал он, я это видел, ты сыграл несколько тактов, и мне стало ясно, что из тебя виртуоз получится, а из меня — нет. А про Гленна сразу было ясно, что он гений. Наш американо-канадский гений. Мы потерпели крах по различным причинам, говорил Вертхаймер, думал я. Мне нечего было доказывать, мне предстояло все потерять, говорил он, думал я. Наши задатки, вероятно, были нашим несчастьем, сказал он и добавил: Гленн не загубил свои задатки, они позволили ему стать гением. Если бы мы только не сошлись с Гленном, говорил Вертхаймер. Если бы только имя Горовиц ничего для нас не значило. Если бы мы вообще не поехали в Зальцбург! — сказал он. В этом городе мы подцепили смерть, поступив к Горовицу и познакомившись с Гленном. Наш друг стал для нас смертью. Мы-то ведь были лучше остальных учеников Горовица, но Гленн был лучше даже самого Горовица, говорил Вертхаймер, я еще слышу, как он это говорит. С другой стороны, говорил он, мы-то еще живы, а он — нет. Сколько людей из его окружения уже умерло, сколько родственников, друзей, знакомых, но ни одна из этих смертей не потрясла его ни в малейшей мере, смерть же Гленна
смертельно поразила его, «смертельно» он выговаривал ужасающе четко. Мы в общем-то не должны жить бок о бок с человеком, чтобы сильно привязаться к нему, чтобы быть с ним одним целым, сказал он. Смерть Гленна, сказал он,
глубочайше его поразила, думал я, стоя в гостинице. Несмотря на то, что смерть эта была предсказуема, как ничто другое, что она была делом само собой разумеющимся, говорил он, нам ее не постичь, мы ее не понимаем, не постигаем. Гленн пристрастился и к слову, и к понятию «пропащий», я хорошо помню: оно пришло ему в голову на Зигмунд-Хафнергассе. Когда мы смотрим на людей, мы видим только калек, сказал нам как-то Гленн, видим изувеченных снаружи, или внутри, или
и снаружи
и внутри, других людей не бывает, думал я. Чем пристальней мы присматриваемся к человеку, тем более изувеченным он нам кажется, потому что он изувечен настолько, что мы даже не хотим этого признавать, хотя так оно и есть. Мир полон калек. Мы идем по улице и встречаем только калек. Мы приглашаем человека к себе в гости — и вот калека уже в нашем доме, так говорил Гленн, думал я. На самом деле я и сам это подметил, а Гленн лишь подтвердил подмеченное мною. Вертхаймер, Гленн, я — все мы были калеки, думал я. Дружба, союз артистов! — думал я, боже мой, какое безумие! Я один выжил! Теперь я остался один, думал я, ведь, если говорить начистоту, в моей жизни существовали лишь два человека, и они были для меня всем: Гленн и Вертхаймер. Теперь Гленн и Вертхаймер умерли, и мне необходимо смириться с этим фактом. Гостиница показалась мне запущенной: повсюду, как и во всех здешних гостиницах, грязь, а воздух такой, что, как говорится, хоть топор вешай. Очень неприятно. Давно уже надо было бы позвать хозяйку, которую я знавал и прежде, но я ее не позвал. Вертхаймер, должно быть, не раз переспал с хозяйкой, естественно, у нее в гостинице, а не в своем охотничьем доме, так рассказывают, думал я. По сути, Гленн всегда играл только «Гольдберг-вариации» и "Искусство фуги", даже когда играл что-нибудь другое, например, Брамса или Моцарта, Шёнберга или Веберна, о котором он был самого высокого мнения, причем Шёнберга он ценил выше Веберна, а не наоборот, как можно подумать. Вертхаймер не раз приглашал Гленна в Трайх, но Гленн после своего концерта на Зальцбургском фестивале ни разу больше не приезжал в Европу. Мы даже не переписывались, ведь несколько открыток, которыми мы обменялись друг с другом за многие годы, нельзя назвать перепиской. Гленн регулярно посылал нам свои пластинки, мы его за них благодарили, и это было все. По сути, нас связывала абсолютная несентиментальность нашей дружбы, и Вертхаймер, разумеется, тоже был совершенно несентиментальным, даже если казалось, что это совсем не так. Если он жаловался, то делал это не из сентиментальности, а по расчету, намеренно. Мысль о том, что после смерти Вертхаймера мне захочется еще раз осмотреть его охотничий дом, показалась мне поначалу абсурдной, и я схватился за голову — в переносном, конечно, смысле. Но мой-то поступок совсем не сентиментален, думал я, осматриваясь в гостинице. Сначала я хотел только заглянуть в его квартиру на Кольмаркте, но потом решил съездить и в Трайх, чтобы осмотреть охотничий дом, в котором Вертхаймер провел два последних года своей жизни, в ужаснейших, насколько мне известно, условиях. После того как его сестра вышла замуж, он с трудом смог продержаться в Вене три месяца, бродил по городу, могу себе представить — он беспрестанно проклинал сестру, до того самого момента, когда ему просто-напросто пришлось уехать из Вены, чтобы укрыться в Трайхе. Его последняя открытка, адресованная мне в Мадрид, привела меня в ужас. Почерк его был почерком старика, в бессвязном тексте явно обнаруживались признаки помешательства. Но я не собирался приежать в Австрию, на Калле-де-Прадо я был слишком занят написанием работы "О Гленне Гульде", эту работу я бы не хотел прерывать ни при каких обстоятельствах, не то она пошла бы прахом, а я не хотел рисковать, поэтому и не ответил на открытку Вертхаймера, обеспокоившую меня сразу же, как только я пробежал глазами первые строки. Вертхаймеру пришла в голову мысль полететь на похороны Гульда в Америку, но я отказался, а один он не полетел. Лишь через три дня после того, как Вертхаймер повесился, я вспомнил, что ему, как и Гленну, исполнился пятьдесят один год. Когда мы переступаем порог пятидесятилетия, мы кажемся себе злобными и бесхарактерными, думал я, — как долго мы можем находиться в таком состоянии, вот в чем вопрос. Очень многие кончают с собой в пятьдесят один год, думал я. Многие кончают с собой и в пятьдесят два, но большинство — все же в пятьдесят один. Все равно, кончают ли люди с собой в пятьдесят один год или умирают, как говорится, естественной смертью, все равно, умирают ли они как Гленн или как Вертхаймер. Причина зачастую кроется в том, что пятидесятилетние, пройдя пятидесятый год жизни, начинают стыдиться, что пересекли эту границу. Пятидесяти-то лет ведь более чем достаточно, думал я. Мы становимся злобными, если переступаем черту пятидесятилетия и продолжаем жить, продолжаем существовать. Мы — переступающие границу трусы, думал я, жалкие вдвойне, потому что мы миновали пятидесятый год жизни. Теперь я бесстыжий, думал я. Я завидовал мертвым. На мгновение я даже стал ненавидеть мертвых за их превосходство. Я посчитал, что поехать в Трайх по самой несерьезной из всех возможных причин — из любопытства — было ошибкой; в гостинице, испытывая к этой гостинице отвращение, я испытывал глубочайшее отвращение к самому себе. И кто знает, думал я, впустят ли меня вообще в охотничий дом, потому что туда наверняка уже въехали новые владельцы и они никого не принимают, а уж меня тем более не примут, так как я, насколько я знаю, всегда был им ненавистен, ведь перед своими родственниками Вертхаймер всегда изображал меня в таком свете, что меня, мне по крайней мере так кажется, они ненавидели точно так же, как и его самого, и поэтому, скорее всего, теперь они, причем по праву, думают обо мне как о самом неслыханном проныре. Надо было вернуться в Мадрид, а не предпринимать эту совершенно ненужную поездку в Трайх, думал я. Я оказался в постыдной ситуации. Вдруг я почувствовал, что задуманное мной предприятие, а именно: устроить обыск в охотничьем доме Вертхаймера, осмотреть все его комнаты, все до последней, чтобы ничего не упустить из виду, а потом поразмыслить над увиденным, — похоже на мародерство. Я — страшный человек, думал я, отвратительный, отталкивающий; я решил позвать хозяйку, но в последний момент так и не позвал, потому что испугался, что она появится неожиданно, слишком скоро, слишком рано для меня, оборвет поток моих мыслей, вмиг уничтожит все, что я тут надумал за раз, все мои размышления о Гленне и Вертхаймере, которые я вдруг себе позволил. На самом деле я намеревался и все еще намереваюсь просмотреть сочинения, оставленные Вертхаймером. Вертхаймер частенько рассказывал о своих сочинениях, над которыми он в течение долгого времени работал. Нелепицы, как он их называл. Правда, Вертхаймер был высокомерным, что дает мне право предположить, что в этом случае речь идет о самом ценном, наверняка — о вертхаймеровских мыслях, которые заслуживают того, чтобы их сохранили, собрали, спасли, упорядочили, думал я; и уже видел перед собой стопки тетрадей (и каталожных карточек) с записями более или менее логико-философского содержания. Но ведь наследники не уступят мне этих тетрадей (и каталожных карточек), всех этих рукописей (и каталожных карточек), думал я. Они вообще не впустят меня в охотничий дом. Они спросят, кто я такой, и скажи я им, кто я, они сразу же захлопнут дверь прямо перед моим носом. Моя гнилая репутация моментально заставит их захлопнуть перед моим носом дверь и запереть ее на все засовы, думал я. Безумная мысль посетить охотничий дом пришла мне еще в Мадриде. Вполне возможно, что Вертхаймер никому кроме меня не рассказывал о своих рукописях (и каталожных карточках), думал я; возможно, он спрятал их где-нибудь, так что я просто обязан отыскать и сохранить эти тетради (и каталожные карточки) ради него; во что бы то ни стало. От Гленна вообще ничего не осталось, Гленн не делал записей, думал я, а Вертхаймер, наоборот, беспрерывно писал — годами, десятилетиями. Главное — я найду что-нибудь интересное про Гленна, думал я, наверняка что-нибудь о нас троих, о годах нашей учебы, о наших учителях, о том, как мы развивались, и вообще о развитии мира, думал я, стоя в гостинице, глядя в кухонное окно, за которым, правда, ничего не было видно, потому что стекла почернели от грязи. На этой грязной кухне готовят, думал я, еду из этой грязной кухни несут постояльцам. Все австрийские гостиницы заросли грязью, они ужасно неопрятны, думал я, ни в одной из таких гостиниц тебе не постелют на стол чистую скатерть, не говоря уже о тканевых салфетках, в Швейцарии, например, само самой разумеющихся. Даже в самой маленькой швейцарской гостинице все будет чисто и опрятно, в то время как в австрийских отелях, даже в больших, — грязно и неопрятно. И в первую очередь в номерах! — думал я. Зачастую в этих отелях просто-напросто переглаживают несвежее постельное белье и стелют его новому гостю, и нередко в раковине случается обнаружить волосы предыдущего постояльца. Меня всегда тошнило от австрийских гостиниц, думал я: Посуда там никогда не бывает чистой, и столовые приборы при ближайшем рассмотрении почти всегда оказываются грязными. Однако Вертхаймер часто приходил сюда ужинать: я хочу видеть людей хотя бы раз в день, говорил он, — даже если это опустившаяся, неряшливая, грязная хозяйка гостиницы. Так я и мечусь из одной клетки в другую, сказал как-то раз Вертхаймер, — из квартиры на Кольмаркте в Трайх и обратно, сказал он, думал я. Из ужасной клетки большого города— в ужасную лесную клетку. Иногда я прячусь там, иногда тут, то — в извращенности Кольмаркта, то — в извращенности леса, в деревне. Я выскальзываю из одной клетки, чтобы юркнуть в другую. И так всю жизнь. Но я настолько свыкся с этим процессом, что ничего другого не могу себе и представить, сказал он. Гленн заперся в своей американской клетке, а я — в верхнеавстрийской, сказал он, думал я. Он — со своей манией величия, я — с моим отчаянием. Мы, все трое, — с нашим отчаянием, сказал он, думал я. Я рассказал Гленну о нашем охотничьем доме, сказал Вертхаймер, — я уверен, что он именно поэтому и построил свой дом,
свою студию, инструмент своего отчаяния в лесу, сказал Вертхаймер, думал я. Какое сумасбродство — построить посреди леса дом с музыкальной студией, удаленный на много километров ото всего, отгородиться от людей: так мог поступить только помешанный, безумец, говорил Вертхаймер. Мне-то не надо было строить свою студию для отчаяния, она у меня уже имелась — в Трайхе. Я унаследовал ее от отца, который мог жить здесь годами, он был не такой разборчивый, как я, не такой жалкий, как я, не такой презираемый, как я, не такой смехотворный, как я, сказал однажды Вертхаймер. У нас — просто идеальная сестра, и она изменяет нам в самый неподходящий момент, совершенно без зазрения совести, сказал Вертхаймер. Удирает в Швейцарию, где все прогнило, Швейцария — самая продажная страна в Европе, сказал он, в Швейцарии меня ни на мгновение не оставляло ощущение, что я нахожусь в борделе, сказал он. Кругом проституция, и в городах и в деревнях, сказал он. Санкт-Мориц, Саас Фе, Гштаад — сплошные публичные дома, не говоря уже о Цюрихе или Базеле; всемирный бордель, не раз повторял Вертхаймер, всемирный бордель, всемирный бордель и не как иначе. Этот мрачный город, Кур, в котором и по сей день без епископа ни один пирог не освятится! — воскликнул он. И именно туда отправилась моя сестра, сбежала от своего жестокого брата, разрушителя ее жизни, ее существования, сказал Вертхаймер, думал я. В Цицерс, в вонючее логово католицизма! Смерть Гленна потрясла меня до глубины души; стоя в холле, на том же месте, где и раньше, только поставив сумку на пол, я ясно слышу, как он произносит эти слова. Вертхаймер обязан был покончить с собой, сказал я про себя, у него больше не было будущего. Его жизнь подошла к концу, он иссуществовался. Совершенно в его духе было спать с хозяйкой в ее доме, подумал я; я посмотрел на потолок в холле, подозревая, что именно там, наверху, на хозяйской кровати эти двое и совокуплялись. Сверхэстет в грязной постели, думал я. Сибарит, всегда веривший, что сможет прожить лишь с Шопенгауэром, Кантом, Спинозой, — и на тебе, регулярно спит с хозяйкой гостиницы из Ванкхама, под периной, набитой грубым пером. Сначала я чуть было не рассмеялся во весь голос, потом мне стало противно. Моего смешка тоже никто не услышал. Хозяйка не появлялась. Холл, по моим наблюдениям, с каждым разом становился все грязней — разумеется, как и вся гостиница. Правда, выбирать мне не приходилось, здесь была и есть только
эта гостиница. Гленн, думал я, никогда не играл Шопена. Отвергал любые предложения, самые высокие гонорары. Он всегда пытался разубедить людей в том, что он несчастен, он, дескать, —
самый счастливый, наисчастливейший. Музыка — Одержимость — Жажда славы — Гленн, записал я однажды в своей первой мадридской тетради. Эти люди на площади Пуэрта-дель-Соль, которых я описывал Гленну в тысяча девятьсот шестьдесят третьем, после того, как открыл для себя
Харди .
[3] Томас Харди (1840–1928) — английский романист.
Читать дальше