Прослеживаю, как я становилась все больше и больше. Снова мать и отец, они строят дом — должно быть, снимали друг друга, — ставят стены, потом крышу, сажают огород. Каждый снимок окружен белой рамкой, уголки закреплены в петельках, словно это черно-белые оконца в мир, который для меня уже больше не доступен. Я была почти на каждой фотографии, там, за бумажным окошком, я или та часть меня, которой теперь недостает.
Школьные фотографии, мое лицо в ряду сорока других, а над нами возвышаются исполины-учителя. Меня всюду легко найти: вон та, смазанная или глядящая не туда, — я. Потом пошли глянцевые цветные снимки, забытые мальчики с прыщами и гвоздиками, я в жестких платьях, кринолинах и тюлях, многослойных, как именинный торт из кондитерской; и наконец-то я — цивилизованная, готовый товар. Она говорила: «Тебе это очень к лицу, дружок», можно было подумать, что она говорит искренне, но я не верила, я уже знала тогда, что она не судья в вопросах общепринятого.
— Это ты? — спросила Анна, положив на стол «Таинственное происшествие в Стербридже». — Господи, неужели мы так одевались?
Последние страницы в альбоме оказались пустые, несколько снимков были просто вложены между темными листами, как будто мама не хотела доводить его до конца. Я после вечерних туалетов исчезла, свадебных фотографий не было, впрочем, мы их и не делали. Я захлопнула обложку, подровняла ладонью листы.
Ни фактов, ни намеков, так и неизвестно, когда это случилось. В те времена у меня было, по-видимому, все в порядке; но потом как-то так вышло, что я оказалась разрезанной на две части. Будто женщина в цирке, которую распиливают пополам, а она лежит в деревянном ящике, одетая в купальный костюм, и улыбается, тут секрет в зеркалах, я читала в детском журнале; но только со мной фокус не удался, вышла накладка, и меня в самом деле перепилили. Другая моя половина, которая осталась отрезанной и спрятанной, и была как раз жизнеспособной, а я — нет, я не та половина, я обреченная, конченая. Не я, а только моя отрубленная голова, или нет, еще того меньше, отрубленный затекший палец, онемение. В школе была такая шутка: приносили коробок, в нем вата, а на дне отверстие, туда незаметно просовывали палец, и получалось, будто он отрублен и уложен в вату.
Мы отчалили от мостков ровно в десять по часам Дэвида. Небо было акварельно-голубое, плыли кучевые облака — белые спинки и серые подбрюшья. Ветер дул в корму, волны обгоняли лодку, мои руки вскидывались и опускались легко и машинально, будто сами знали, что нужно делать. Я сидела впереди, носовая фигура, за спиной у меня Джо толок воду, и лодка рывками продвигалась вперед.
Проплывали, развертываясь, знакомые берега, плоская карта оживала в камнях и деревьях: мыс, обрыв, завалившееся сухое дерево, остров цапель с неразличимыми птичьими силуэтами, черничный остров, увенчанный мачтовыми соснами, выступали по очереди на передний план. На следующем острове была когда-то хижина охотника, бревенчатая, щели законопачены травой, вместо постели — куча соломы; теперь видна только груда древесной трухи.
Утром у нас был разговор, безнадежный, но в спокойных, разумных тонах, словно обсуждался счет за телефон; и значит, это — конец. Мы еще лежали в постели, его ноги торчали из-под короткого одеяла. Я просто не могла дождаться, когда наконец состарюсь и ничего этого мне больше не будет нужно.
— Когда вернемся в город, — сказала я, — я съеду с квартиры.
— Могу я, если хочешь, — сказал он великодушно.
— Нет, у тебя там все эти горшки и остальное.
— Пусть будет по-твоему, — сказал он. — Как всегда.
В его глазах это была моя победа и его поражение, как ребята в школе выворачивали тебе руки и спрашивали: «Сдаешься? Сдаешься?» — покуда не скажешь: «Сдаюсь!» — а тогда отпускали. Меня он не любил, он любил свой собственный идеальный образ и хотел, чтобы это чувство разделял с ним еще кто-нибудь, все равно кто, я или не я, не имело значения, так что можно было не беспокоиться.
Солнце стояло на полдне. Мы пообедали на скалистом островке уже почти в открытой, широкой части озера. Когда мы пристали к берегу, оказалось, что кто-то до нас успел сложить очаг на голой гранитной плите над водой, вокруг валялся мусор, консервные банки, апельсиновая кожура, комок просаленной протухшей бумаги — след человека. Так собаки мочатся на забор — этих людей бескрайняя водная гладь и ничья земля словно побуждали оставить свой знак, подпись, обозначить новые пределы своих владений, и для этой цели у них не было ничего, кроме мусора. Я подобрала все, что там валялось, и сложила в кучу в сторонке, чтобы потом сжечь.
Читать дальше
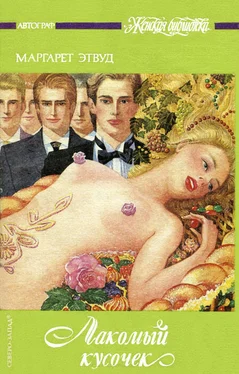





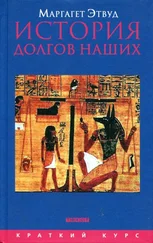
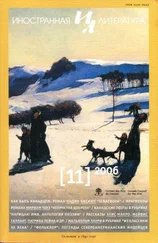

![Маргарет Этвуд - Лакомый кусочек [litres]](/books/384342/margaret-etvud-lakomyj-kusochek-litres-thumb.webp)
![Маргарет Этвуд - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/389748/margaret-etvud-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-thumb.webp)

