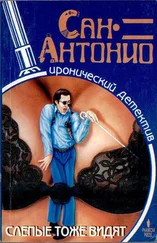Альберто Мендес
Слепые подсолнухи
Чеме и Хуану Портилье,
тем кто познал, что такое потеря
Победа обязывает, победа требует брать на себя ответственность не для того, чтобы составить отчет или все предать забвению. Трагедия взыскует, безоговорочно требует опыта и памяти боли, которые единственно и являются главным мерилом всего, а не покаяние или прощение. Испания до сих пор так и не преисполнилась болью, которая, среди прочего, означает признание: все это было трагедией, и трагедией невосполнимой. Вместо этого совсем наоборот: из года в год весело празднуется, вопреки здравому смыслу, причудливое переплетение того, что могло бы действительно произойти, и того, чего никогда бы не случилось; как всегда, празднуется жизнь и отмечается ее отсутствие. А опыт боли, память боли в этих самых воспоминаниях не находит своего места: не отражается миг, когда кто-то поминает павшего. То самое воспоминание, болезненно-горькое или данное в утешение, которое со всей очевидностью заявит о безвозвратной потере. Без этого наше существование пусто.
Карлос Пьера, из предисловия к «Взглядам дня. Поэтическая антология» Томаса Сеговиа
Поражение первое: 1939 год,
или
Если бы сердце заранее знало, оно перестало бы биться
Сейчас нам кажется, что капитан Алегриа выбрал свою собственную смерть наугад, вслепую, ни мгновения не вглядываясь в исступленно-бешеный лик будущего, жадно следившего за душами тех, кто повстречался ему на пути. Выбрал свой собственный выход: тихая смерть, угасание, в котором нет ни страсти, ни театрального жеманства, ни воинственных кличей на поле боя. Стоя с высоко поднятыми руками, во весь рост, чтобы не казалось, будто он умоляет о пощаде, взглянул на врага своего, который все еще колебался в недоверии, крикнул, потом повторил еще и еще раз: «Иду сдаваться!»
Мадрид, укрытый вялой мглой, погрузился в ночной сон, унылая тишина, скорее безмолвно-молитвенная, чем напряженно-воинственная, витала над ним. «Иду сдаваться!» Полагаю, пару-тройку ночей капитан Алегриа постоянно прокручивал перед собой будущее событие. Возможно, он не желал признать окончательным и бесповоротным это «Сдаюсь!», поскольку тогда все стало бы лишь холодной констатацией факта: он окончательно и бесповоротно сдался. А в действительности он сдавал позиции постепенно, неторопливо, шаг за шагом. Сначала он сдался сам пред собой и только потом отдался во власть врагу. Когда появилась возможность рассказать об этом, четко, раз и навсегда, оценил свой поступок как горькую победу — победу с точностью до наоборот. « Войны оплачивают телами павших, но с давних пор все ищут в этом деле выгоду. Должно выбрать: или победить в войне, или отвоевать место на кладбище», — написал он Инес, своей невесте, в январе 1938 года. С высоты сегодняшнего дня понятно: сам того не ведая, капитан решительно отказался и от того и от другого.
Нынче, зная все то, что известно о Карлосе Алегриа, утверждаем: ничего, кроме безмолвного, панического крика ужаса, застывшего внутри, он не слышал. В нескольких метрах, отделявших его от неприятельской траншеи, ночная тишина поглотила грохот и разрывы снарядов, крики и стоны раненых воинов. Мадрид едва угадывался, словно задник декорации на сцене; дрожащая мгла скрывала темные силуэты погрузившегося во тьму города, а луна вычерчивала на них свою неизбывную печаль. Мадрид захвачен, попал в западню.
Так случилось поражение капитана Алегриа. Три долгих года следил он за врагом своим, наглым, беззастенчивым соотечественником, покорно взиравшим на то, как другая армия, его собственная армия, крушит, стирает в пыль этот безмолвный, неподвижный город. Город, положивший пределы свои наобум, через траншеи, в которых никто долго-долго атак не ждал.
«Насилие и боль, ярость и бессилие — вот что с течением времени слилось воедино, образовав некую религию выживания, в ритуал ожидания, когда все ноют один и тот же псалом-заклинание — ритуал, который убивает и умирает сам , — и жертва, и палач одновременно. Единственным словом оказывается тогда слово, начертанное мечом, а единственным языком и аргументом — рана и горечь », — писал Алегриа своему преподавателю естественного права в Саламанке за два месяца до сдачи в плен.
Три года посвятил он обустройству позиций с маниакальной скрупулезностью землемера, с горячной неуступчивостью единственного сына, все для того, чтобы ни один снаряд, ни шальной, ни по чьему-либо приказу, не был бы в силах разрушить его собственный боевой порядок, и тогда смог бы он и дальше сражаться. Три года провел он, оценивая урон, нанесенный врагу, пристально оглядывая окрестности в полевой бинокль, коими командование регулярно снабжало всех военных стратегов, внимательных корректировщиков и праздных наблюдателей, охочих до чужих смертей. О тех ужасах, которые не случалось видеть им самим, многословно и красочно рассказывали другие.
Читать дальше
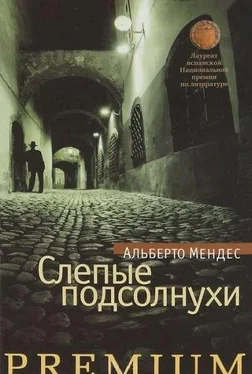
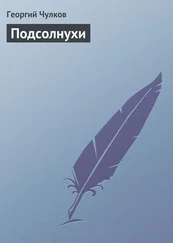
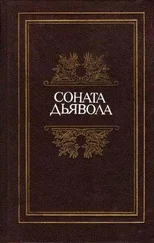

![Ноэль Шатле - Дама в синем. Бабушка-маков цвет. Девочка и подсолнухи [Авторский сборник]](/books/181574/noel-shatle-dama-v-sinem-babushka-thumb.webp)